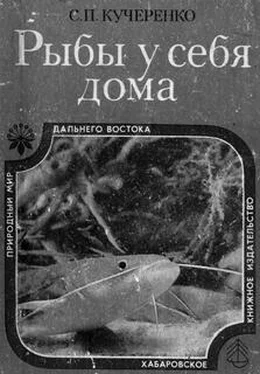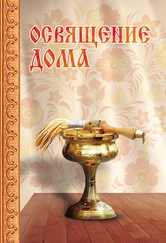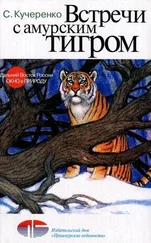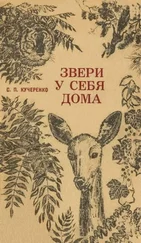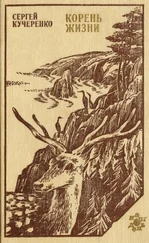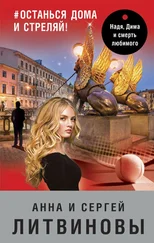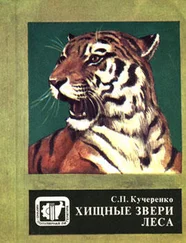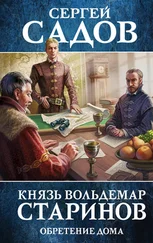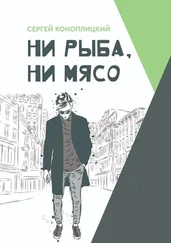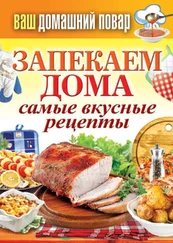…Через несколько недель из икринок вылупляются крошечные червячки личинок. Сначала они прячутся под камнями и в песке, но все-таки потом вылезают и подхватываются течением, разносятся им по безбрежным амурским просторам. Постепенно они оседают на дно тихих, лишь слегка или временами проточных заливов и проток. И непременно на илистое дно, в котором им предстоит жить долго. Заканчивается этот процесс распределения личинок по Амуру к июлю.
Их зовут пескоройками, а вернее было бы сказать — илоройками. Они очень похожи на вьюнов, но что это не вьюн, понять легко: хотя бы по тому, что у личинок-пескороек нет парных плавников, и глаз не видно, и рот не как рот, да еще в странных ворсинках, и жабры совсем не рыбьи… И очень они светло окрашены — в белое или светло-серое…
На взрослых миног тоже мало смахивают: присасывательной воронки нет, и глаза не видны…
Важно еще раз подчеркнуть: живут личинки миноги в иле. Стоит обратить внимание, как они вбуравливаются в ил: приподнялась, ткнулась головой, изогнулась штопором, крутанулась — и нет ее. А копни в том месте — уже не найдешь: она успела убежать далече — теперь в горизонтальном направлении.
Своеобразно питаются эти пескоройки. Втягивают в себя с током воды через четырехугольный рот со странной нависью козырька-губы ил и отфильтровывают из него съедобное очень примитивным кишечником всего в половину собственной длины тела.
Растут и развиваются пескоройки до невозможности медленно. Рыбке уже семь месяцев, а она всего-навсего в полтора сантиметра и удваивает длину лишь к году. Даже двухгодовалая пескоройка всего лишь со спичку или чуток побольше, а трехлеток едва дотянул до дециметра. И потому нашему странному илоеду требуется долгих 4–5 лет для того, чтобы подготовиться к переходу в стадию взрослой рыбы.
Вытянувшись наконец до 14–18 сантиметров и кое-как накопив в себе 3–4 грамма весу, пескоройки покидают ил и отдаются воле речного течения. Да почти на полгода отдаются! Плывут эти покатники и… перерождаются в настоящих молодых миног. Этот процесс называется метаморфозом, а затягивается он на всю вторую половину календарного года, да еще месяц-другой надобны.
И наконец-то они в море, и обзавелись зубастой присасывательной воронкой с мощным языком, и прозрели, и научились быстро плавать. И стали на обильном высококалорийном корме стремительно расти, чтобы через пару лет замкнуть странный, своеобразный, тоже не лишенный трагического и загадочного жизненный круг.
Неприятна на вид минога, и характер ее питания не располагает нас к ней. А она вкусна и очень питательна, в ней совершенно нет костей и все тело съедобно. Я ее ем с удовольствием, а потом чувствую прилив сил.
Только в последние годы редкой стала минога в магазинах — мало ловят ее промысловики-колхозники из-за сложностей добычи и низкой производительности труда. А все потому, что начало самого массового хода в низовьях Амура приходится на время еще не угасших кетовых страстей, но уже близких ледовых образований. Напротив Комсомольска минога движется уже навстречу шуге, а у Елабуги и Хабаровска штурмует течение подо льдом. И трудно при этом ее ловить: нужно долбить толстый торосистый лед и опускать под него сетные ловушки вентерного типа горлом по течению. А ко времени их проверки вода в прорубях вновь окаменела…
И не всегда угадаешь миграционную струю потока миноги, ширина которой невелика, и не всегда подгадаешь время ее хода, а стало быть, и не всегда заработаешь.
Робкие попытки начать промысел миноги делались на Амуре еще в первом десятилетии нашего века, но развития они не получили. В наши дни такой промысел существует, да только примитивен он и мелкомасштабен. А жаль: много можно было бы дать людям дополнительного деликатесного продукта. Хотя с 1963 по 1985 год размеры промысловых уловов миноги изменялись от 330 до 5265 центнеров, в среднем за 20-летие они составили полторы тысячи центнеров.
Ловить миногу мне пришлось единожды за всю жизнь. Немного ниже устья Анюя в начале ноября. По склонам сопок в засквозивших низами лесах тихо и печально дотлевала осень, обреченно стыли льдом спокойные мелководья, утрами иней густо обсыпал опавшие листья, поникшую траву и совсем молодой лед…
И вот однажды, пробив лунки недалеко от мыса, дугой огибаемого фарватером, мы с другом «махали» щуку. Метрах в двадцати от берега на глубине 2–3 метра. И пошла под нами минога! Поперла такой густой беспрерывной стаей, что все подледье вмиг стало черным… Лед был всего 5-сантиметровой толщины, мы быстро расширили лунки и принялись выбрасывать рыбу из воды чем попало: черпаком, махалками, потом в азарте руками, оголив их по локти и став на колени… За полчаса и сил не осталось, и незачем было очень уж много этой рыбы. А она все плыла и плыла подо льдом у мыса, спрямляя дугу фарватера…
Читать дальше