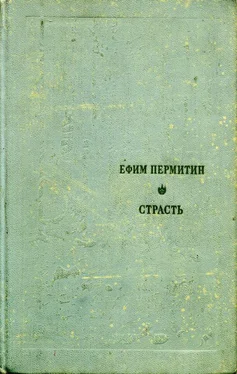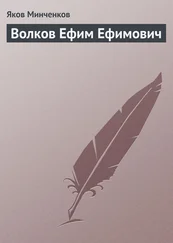— Братка, Николаич, послушайте, сколь же умны наши псюги. Я им смешал молоко с водой, они молоко выпили, а воду оставили…
Но ни заснувший уже Иван, ни я не отозвались на его шутку.
«Даже и Митяйка не так уж расстроен», — подумал я и, заглянув в свою душу, снова почувствовал себя счастливым.
* * *
Прежде чем убедить или хотя бы поколебать кого-то в «сторону добра» — надобно победить себя. Всю дорогу до подстепинского венца я, отлично знавший безудержную пылкость Митяйки на охоте, убеждал его не горячиться, не стрелять — на «авось», «не видя неба», а с выдержкой, с разумом: в крепи легко в собаку, а то и в спину товарищу посадить заряд…
Еще у стана мы разделились. Иван с Володей и Альфой направились в дальний край венца, мы с Митяйкой и Кадо — к его началу, чтоб, сходясь к центру, проневодить весь яр. Ни в коем случае не бить тетерок, стрелять в меру, не делать подранков.
— Выдержишь? — Я поглядел Митяйке в глаза… И не сморгнет. Я ждал, что он, как всегда, с легкомысленной улыбкой перекрестится и ответит: «Вот те крест во все пузынько…» Но Митяйка твердо ответил:
— Выдержу!
На наше счастье день действительно, выдался ясный и довольно жаркий. Насохшая после полудня стерня проса шумела под ногами.
На поле, убранном небрежно, всюду были следы жировавшей птицы: перья, утиный, тетеревиный и голубиный помет. И не только в узкой полосе пашни, где просо было сложено в копны, но и по всему просянищу с валяющимися на стерне тяжелыми гроздьями: «с каждой — тарелка каши».
Даже Митяйка не выдержал и, подняв из-под ног целую горсть потемневших от дождя брунистых, тяжелых стеблей, с мужицкой суровостью в голосе сказал:
— Исполу собирали. Да за такую уборку глаза изо лба выбивать и в тюрьму сажать!..
Дорогою мы подняли несколько запоздавших с отлетом настолько ожиревших перепелов, что они, пролетев сажен двадцать, камнем падали на просянища. Мы не стреляли в них: у нас не было патронов с бекасинником.
А солнце сияло по-летнему: мы обливались потом.
Благостную прохладу подстепинского венца почувствовали издалека.
Заросший шиповником и ежевикой, крутой, местами сажен до тридцати и больше венец гигантской зеленой подковой опоясал все пространство когда-то заливных Красноярских лугов. В таких изобильных кормом, труднодоступных и человеку и собаке крепях, старые черныши-монахи теряют брачное и к концу лета набирают новое, лаково-черное с синеватым отливом перо.
Подстепинский венец как раз и представлял из себя, как говорят ружейные охотники, ту «заразистую» крепь, в которую с гладкошерстной собакой лучше и не соваться — на первых же порах она в кровь изрежет себе и чутье, и брыли, и брюхо. Проходив в такой «заразихе» час-другой, собака непременно начинает «чистить шпоры».
Но мой крупный, богатырски сложенный Кадо, с густой шелковистой псовиной лаверак, не знавший истому и в подобных крепях, смело ринулся в колючие заросли шиповника и ежевики.
Я свистнул его — «к ноге!».
— Сядем! — предложил я Митяйке.
— Строжайший уговор: я иду по верхнему краю яра, ты — по нижнему. Кадо пустим в середину: сверху мне отлично будет видна стойка собаки. Команду Кадо я буду подавать громко, чтобы и ты слышал и изготовился. Как правило, сорвавшись, тетерев летит вниз, иногда вдоль венца и очень редко в гору. Бей только угонных и над головой. Боже упаси, стрелять в мою сторону! Понял?
Осыпанное капельками пота лицо Митяйки, его диковато сверкающие, полубезумные глаза ясно говорили мне, что и половины моих слов не дошло до его сознанья, но он утвердительно кивнул. Вытянувшись на животе, лежавший рядом с нами Кадо, раздув чутье, втягивал волновавшие его запахи. Я положил руку на загривок собаки: по телу Кадо волнами прокатывалась дрожь, а в глазах его жило то же нетерпеливое ожидание, что и у Митяйки.
Приказав Митяйке обождать, покуда мы с Кадо пролезем береговые кусты и поднимемся на бугор, я стал продираться через густую кромку волчевника.
Из всех птиц, на которых мне приходилось охотиться, тетерев меньше всякой другой дичи волновал меня… Я хорошо «навскидку» стрелял по тетеревам, и потому, что стрельба по ним в наших местах была самая легкая — тетерев почти всегда летает по прямой, — и потому, что на Бабушкином зимовье, где протекала моя охотничья юность, тетеревов мною было убито больше всякой другой дичи.
И все же я волновался, потому что отлично сознавал — охотиться с молодым, до заполошности азартным стрелком, в узких крепких, почти насквозь простреливаемых местах, значит, и себя и собаку подвергать смертельной опасности.
Читать дальше