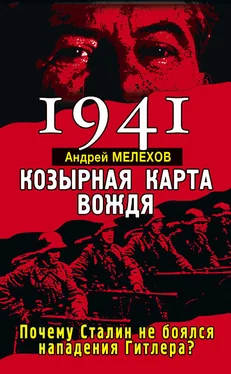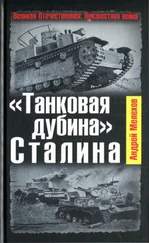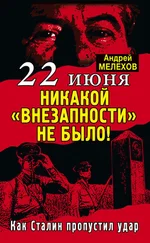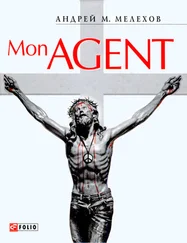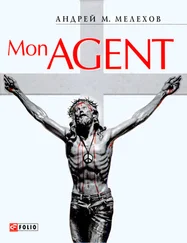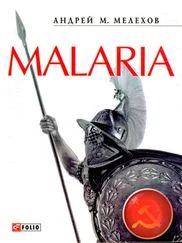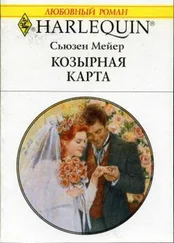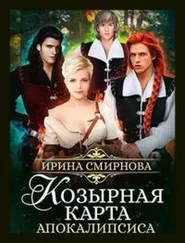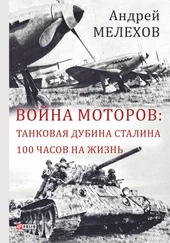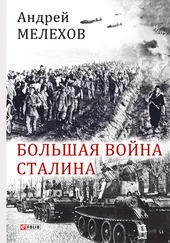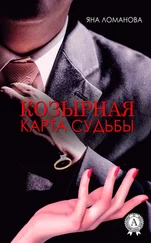Прежде всего, Бассет подсказывает, что у адмирала имелось право прямого доступа к Гитлеру: «Как любой руководитель секретной разведки, он ( Канарис ) имел право доступа к руководителю государства в любое время. Но в случае с Канарисом эта привилегия трактовалась на редкость великодушно» («Главный шпион Гитлера», с. 118). Проще говоря, адмирал и, возможно, его помощники имели возможность оказаться рядом с фюрером в течение довольно ограниченного времени – скажем, в течение суток – после соответствующего запроса. Дальше ещё интереснее: «...Абвер, – сообщает британский историк, – являлся единственной в Третьем рейхе организацией, свободной от арийских законов, запрещавших евреям поступать на государственную службу» (с. 119). Это значит, что в одном помещении с «бесноватым» мог оказаться представитель нации, которую тот решил полностью уничтожить. Думаю, что даже сегодня, если опросить военнослужащих израильской армии, то окажется, что больше половины из них пожертвовали бы собой, чтобы избавить мир от «наци номер один». Не будем забывать и о том, что в Абвере перед войной «числились 30 000 человек, из которых 8000 были офицерами» (там же, с. 187).
В составе этой могучей по любым меркам организации с огромным бюджетом имелось и специальное силовое подразделение – печально известный полк «Бранденбург», названный так по месту расположения его казарм в предместье Берлина. «Это, – рассказывает Бассет, – был прообраз нынешних сил особого назначения. Владеющие несколькими языками, весьма мобильные, подготовленные к операциям на вражеской территории, солдаты этого подразделения показали себя достойными противниками НКВД... и даже САС... «Бранденбург» «мог позже сформировать потенциальное ядро вооружённого восстания против Гитлера» (там же, с. 122). Подчеркну: это написал самый что ни на есть «серьёзный» историк, который провёл немало времени в английских и германских архивах. Наконец, Бассет подтверждает, что доверительные рабочие отношения с советскими спецслужбами накануне войны существовали не только у СД: оказывается, Абвер обменивался информацией с советской разведкой в период между сентябрём 1939-го и январём 1941 года(там же, с. 278). Контакты эти не прервались и после начала операции «Барбаросса»: «Канарис, – делится очередным сенсационным фактом английский автор, – распорядился, чтобы его агенты сохраняли связь с Советским Союзом» (там же, с. 283). Читатель вправе задать резонный вопрос: а к чему ты, собственно, Терехов-Мелехов, клонишь? Что ж, настала пора изложить гипотетическую картину, иллюстрирующую развитие и бесславный конец операции «козырная карта»...
Как побили «козырную карту»: версия автора
Сразу оговорюсь: обосновывая свою гипотезу, я был вынужден оперировать исключительно косвенными доказательствами. Вдобавок, мои предположения – это продукт рассуждений любителя. Мне наверняка не удалось избежать упущений, упрощений и ошибок, без которых, скорее всего, обошёлся бы профессиональный историк, занимающийся соответствующей тематикой много лет. Тем не менее, сейчас – спустя полтора года после первой несмелой догадки – я, несмотря на ещё остающиеся сомнения, всё же в гораздо большей степени склонен верить именно в своё объяснение загадочного спокойствия Сталина и его приближённых в ночь с 21 на 22 июня 1941 года.
Прежде всего, сейчас я практически полностью уверен в том, что у тогдашнего правителя Советского Союза (а возможно, и у его последователей в более поздний период) существовали тайные планы физического устранения политического и военного руководства той или иной страны, в отношении которой у большевиков имелись далеко идущие планы. Показательно в этом плане признание П. Судоплатова о готовившемся, но так и не состоявшемся покушении на Керенского. Его, напомню, должна была совершить группа боевиков-нелегалов, базировавшаяся в окрестностях Парижа. Главной же задачей советских диверсантов под руководством князя Гагарина являлось нанесение удара по штаб-квартире НАТО (тогда она находилась в Фонтенбло) в случае военного столкновения блока с СССР («Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1950-е годы», с. 523). Правда, Судоплатов использует при описании задачи группы эвфемизм – «уничтожение систем связи и тревоги в случае обострения ситуации или начала военных действий». Забыл он упомянуть и о том, что подобное мероприятие имело бы шансы на успех исключительно в случае внезапного нападения СССР на блок НАТО. Дело в том, что руководителей НАТО наверняка убивали бы не после начала войны – когда члены соответствующих командных и штабных структур военного блока оказались бы укрыты в надёжных и хорошо охраняемых подземных бункерах, а до её начала. По сути, одновременные теракты против десятков натовских генералов и полковников в собственных квартирах, домах и автомобилях и означали бы то самое «начало военных действий», являясь давно опробованным советско-гитлеровским вариантом «объявления» войны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу