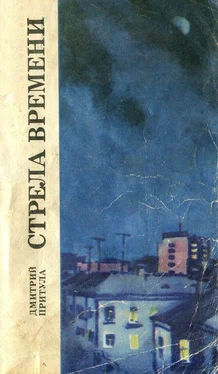— Вася, а ведь ты будешь играть хорошо, вот мое слово. Если время у нас будет, я подучу тебя.
— Это бы хорошо. Да только вам-то интерес какой?
— Так я же учитель, Вася. Вот мне и интересно.
— И чему же вы такому учите?
— А всему. У нас школа начальная, так я учу и грамоте, и счету, и музыке, выходит.
— Ты бы сыграл что-нибудь, отец, — попросил Андрея Павловича кто-то, — может, хватит пристреливаться.
— Это можно, — сразу согласился Андрей Павлович. — А что бы такое сыграть?
— А хоть бы «Катюшу».
Андрей Павлович заиграл, и Лукин ахнул — ну что это за звук у гармоники, да он такого никогда и не слышал, и сразу, безоглядно влюбился в инструмент этот, знал, если ему повезет и он подольше побудет с Андреем Павловичем, обязательно выучится играть, ну хоть плохонько, хоть только для себя одного, чтоб только было чем утешиться на случай одиночества.
И Андрей Павлович, видя такое рвение Лукина, терпеливо объяснял, как лучше играть на гармонике, тем более что это помогало ему коротать неблизкий путь и отвлекало от тоски по семье.
— Ты мягче, Вася, ты не рви, не форсируй. Ты меня переплюнешь скорехонько, в том и сомнений быть не может, но только ты помягче. Вот представь ты себе ясно, как клавиша эта соединяется с клапаном, ты нажмешь клавишу, клапан поднимется, и откроется отверстие в маленькую камеру это городушка, — и ты себе ее представь, а также сообрази, что струя воздуха будет колебать нужный язычок. Вот тут-то, Вася, и случится чудо — появится чистый звук. Тот именно, который тебе нужен. В этом вся хитрость — чтоб появился именно тот звук, который нужен. И когда все звуки, которые ты хочешь получить, выйдут чистыми и не будет ни одной оплошности, ты будешь играть всех лучше на свете на этой вот гармонике. Лучше чем я, это бесспорно. А я играю сносно. Но лучше я играть уже не буду. С тобой же — ничего пока неизвестно. А кто знает — может, из тебя выйдет что-нибудь особенное, чего я представить не могу. Но для того, Вася, ты должен понимать, каково этому язычку трепетать от неверной струи воздуха.
А ведь повезло: Лукин больше не расставался с Андреем Павловичем, и он учился играть в школе, где два месяца из них готовили связистов, и за это время, хоть поверить в это трудно, Лукин учеником быть перестал, что признавал и Андрей Павлович, он играл всюду и при первой возможности — в казарме, в землянке, в блиндаже. Он играл не потому, что его просили — это само собой, его просили всегда, и вскоре он стал своего рода знаменитостью, про взвод связи так и говорили: «Это там, где парень лихо на гармошке играет», — но главным образом играл потому, что так уж душа его была расположена к игре.
То есть он играл бы беспрерывно, и это была бы жизнь замечательная, лучше и представить себе невозможно, но приходилось отрываться на еду и сон, наряды и караул, не говоря о том уже, что ему велели сюда идти не для игры на гармонике, а чтоб обеспечивать связью штаб, дивизии.
Дело какое: месяца, что ли, через два Лукин мог наиграть любую мелодию, если хоть раз слышал ее. И наиграть сразу, без предварительной натаски и прогонки.
А через полгода почувствовал Лукин, что душа его полностью слита с гармоникой и все, что чувствует Лукин, играет и гармоника.
Спору нет, Андрея Павловича тоже солдаты любили, но больше просили поиграть, когда хотели попеть, для сопровождения, что ли. А вот когда играл Лукин, то люди не пели, потому что им больше хотелось послушать его, чем самих себя.
И когда Андрей Павлович говорил, что у его ученика есть большие способности к игре, то Лукин твердо знал, что это правда.
Потому что у каждого человека какие-нибудь способности быть должны, вот только нужно точно, словно бы в десятку, попасть в них. Вот до войны Лукин плотничал, но никто не говорил, плотник и плотник, ничем других не лучше. Так и на войне, во взводе связи, — солдат и солдат, связист и связист, что надо, все сделает, спору нет, на таких война и держалась, но ведь какие связисты были у них во взводе, Лукин им в подметки не годился, и это ясно, что у них способности к этому делу были. А у Лукина — нет.
Музыка же — это совсем другое дело.
Потому что музыка понимание давала: что есть какое-то назначение и у него, у Лукина. Не на эти, разумеется, кровопролитные годы, тут все понятно — труба позвала, земля защиты требует, ветер войны произвел великие смещения судеб, — но есть назначение у Лукина на всю жизнь собственную. Тут в нем было понимание, что так, как сыграет Лукин, ни один другой человек на этой гармонике не сыграет.
Читать дальше