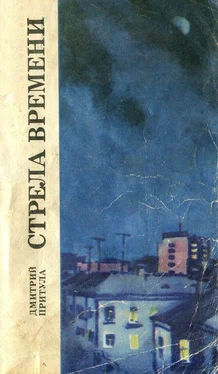Потому-то и жило в нем убеждение, что ежели что-нибудь понимает его голова либо чувствует душа, то это понимание он всегда сумеет объяснить людям, которые слушают его.
Лукин и Катя шли и шли по пыльной дороге, шли неторопливо, потому что путь предстоял неблизкий, несколько раз отдыхали, а когда жара начала спадать, перекусили в молодом березняке.
Лукин узнал, что Катя уехала от матери за год до войны. Жила у тетки — это другой город и область неблизкая, и вот за пять лет впервые идет домой — отпусков по военному времени не давали, и это понятно каждому. Три последних года она служила в большом госпитале для тяжелораненых, и Лукин понял, что и Катя хлебнула военного лиха.
— Ну ничего, теперь и отдохнуть можно, — сказал Лукин. — Заслужили, верно ведь?
— Верно.
Вдали синела полоса низкорослого леса, и Лукин знал, что у леса, за спуском, лежит Утково.
Солнце садилось, оно то пряталось в легких облаках, пропитывая их малиновым светом, словно бы кровь пропитывает бинты, то сияло над лугом.
Утково лежало под горой. Прежде оно казалось больше, а сейчас его можно было увидеть в один охват глаза, и оно умещалось на ладони.
Все было тихо. Солнце скользило по верхушкам тополей и осин.
В ближнем доме забрехала собака, беззлобно, даже равнодушно, скорее только для того, чтоб оправдать собственное существование.
У распахнутого окна первого дома сидела старуха в белом платке. Когда Лукин и Катя поравнялись с окном, старуха что-то коротко сказала через плечо, и тотчас же в окно выглянули женщина помоложе и мальчик лет шести. Они сразу отпрянули от окна и вскоре вышли на улицу. Они смотрели Лукину в спину. Он понимал: в каждом доме ждут солдата, но вот в их дом он не зашел. Значит, к соседям. Неясно только, к кому именно.
Так молча и напряженно вглядывались в лицо Лукина из каждого дома, но поняв, что идет он не к ним, выходили на улицу и тянулись метрах в двадцати позади него.
У сельсовета лежали бревна. Лукин и Катя остановились. Он снял мешок и гармонику и сел на бревно, потому что не мог идти далее под немыми ждущими взглядами. У своих домов стояли старики. Лукина окружили женщины и дети. Молчание нарушил белобрысый мальчик из первого дома.
— Дяденька, а вы чей?
— Так ведь Матвей Трофимов мой крестный. Вот только что-то его я не вижу.
— Помер Матвей, — был ему ответ. — Год почти, как помер.
— Что и жаль, — огорченно покачал головой Лукин. — А я иду в Глухово. Я Василий Лукин, дело какое.
— Павла Лукина сын, что ли? — спросил кто-то.
— Точно, — подтвердил Лукин.
И общий вздох: вот, значит, кому повезло, и деревенька-то маленькая, десять домов всего, а повезло. И вдруг взрыв — свой же человек, что это за расстояние тридцать километров. Павла Лукина сын, и плотно окружили Лукина. Старики оторвались от калиток и подтянулись ближе к Лукину. И расспросы пошли: а что, сынок, не встречал ли ты на дальних дорогах Васю Хренова или Петю Полякова, а вспомни, напрягись, пожалуйста, Федьку Глухова не видел ли, да как же это можно было не встретиться, ведь на одной войне никак, да он рыжий такой и лохматый, и усищи у него вот такие, в палец, тогда хоть Степу Холкова вспомни, сам тощий, руки долгие, да видел ты его, вот только забыл.
Лукин хотел бы объяснить, что война большая, но его не могли слышать, потому что стоял сплошной крик.
— Нет, не помню таких, — огорчил он всех. — Я вот что, я лучше сейчас сыграю.
Он взял в руки гармонику, чуть прикрыл глаза, ухо приложил к мехам, гармоника еше молчала, но Лукин уже прислушивался к ней, как к сердцу живому.
Знал бесповоротно: сегодня будет один из вечеров его лучшей игры. А, может, и единственный вечер самой лучшей игры. Ему есть что рассказать о себе и о детях этих людей, где они были, и как свою и чужую кровушку проливали, и как прокатилось это лихолетье по душам людей.
Жгло его уже что-то под дыхалом, и это вернейший признак того, что следует играть незамедлительно, иначе с жжением этим не справиться.
И Лукин заиграл вальс, который все знали и помнили, — то был вальс «На сопках Маньчжурии».
Лукин чувствовал, что лицо его побледнело и осунулось от волнения, он даже рот приоткрыл, чтоб легче было дышать, лишь иногда встряхивал головой — убрать рассыпавшиеся по лицу волосы.
Ах, плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена — слезы, вот худо, все пролились за войну — плачут все, как один человек — злую судьбу кляня.
Он кончил играть и поднял голову: ну как он играл, ничего себе, верно ведь, утешил ли хоть чем-либо Василий Лукин? Ответом ему было долгое молчание.
Читать дальше