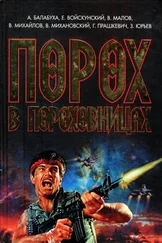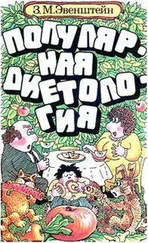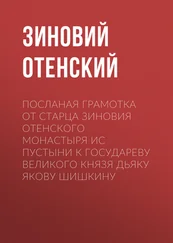Никто из них во всю эту необычайную ночь не почувствовал голода, хотя во рту у них уже много часов не было никакой пищи.
В эту ночь три человека, сновавшие по берегу и суетившиеся у огня, почти не разговаривали друг с другом. Они были заняты большим и важным делом, которое не терпело никакой проволочки. И только по нескольку коротких слов, шедших к этому исключительному делу, отпускали они негромким голосом, словно боялись, что огонь сожмется от их крика, поубавится, измерцается.
– Стёпуш!.. Стукани-ка топорцом сюда, – хрипел чуть слышно Тимофеич, бородатый, озаренный пламенем пожара, который зловеще как-то отблескивал в его немигающих глазах.
И Степан ударял легонько разок-другой по слежавшимся деревинам, чтобы отодрать их друг от друга.
– Держись, Ванюшка!..
И Ванюшка подхватывал скользившую к нему по скату колоду и катил её дальше, в жерло огнедышащей птицы.
Так вот и застал их рассвет за этой работой, нужнее которой они не знали в жизни.
Рассвет пришел с моря сырой и серый, бахромчатым инеем посеребривший лишайник на дальних камнях и напомнивший о себе белесым светом, усталостью на потускневших лицах и голодом, от которого пересыхало во рту и сводило живот. Степан поднял с земли лук и пошел по берегу, оставив Тимофеича и Ванюшку у костра. Он скоро вернулся с диким гусем, которого заметил на скалах и снял оттуда вовремя пущенной стрелой. Они очистили и выпотрошили птицу и зажарили её на длинной палке, которую Степан наскоро вытесал из деревяги, валявшейся среди берегового выкидника.
Медведь, видимо, привык к огню, который стал тускнеть в предрассветной меркоти, хотя по-прежнему шипел, и трещал, и слал в серое небо желтые свои языки. Или, может быть, ошкуй просто проголодался и почуял, что запахло жареным, когда скатился со своего бугра и побежал к воде? Но тогда отчего же он на лету не схватил брошенных ему Ванюшкой потрохов, а протрусил мимо, к бурунам, закипавшим на рассвете у береговых камней?..
Тимофеич, вспоминая потом эту необыкновенную ночь, всякий раз снова утверждал при этом, что хозяин – он думец, он наперед знает, и приводил тому новое доказательство: ошкуй, проведший с ними пять лет на диком острове, не стал в эту ночь искать пеструшек под камнями или заниматься другой какой жранкой. Но когда наступил заветный час, он первый подбежал к воде, отвергнув требуху, которую бросил ему под ноги обгладывавший гуся Ванюшка.
Заветный час наступил в это серое утро, когда кончилась ночь, изрезанная пламенем гигантского пожара. За шипением и треском догорающих бревен долго не слышно было ни мерно погружаемых в воду лопастей, ни скрипа ременных уключин, натягиваемых веслами. Но когда карбас вышел из-за наволока со стороны губовины и стал забирать к догорающим поленницам напрямик, все трое вскочили на ноги и побежали к воде и шли дальше в воде по пояс, оступаясь, крича и протягивая вперед руки. А медведь постоял, поглядел, недоумевая, на совсем обезумевшего Тимофеича, потом повернулся и побрел к огню, где жирные куски недоеденного гуся были разбросаны на земле у костра, начинавшего заметно сворачиваться и спадать.
XXVIII. НЕСГОВОРЧИВОСТЬ СЕМЕНА ПАФНУТЬИЧА
Семен Пафнутьич наотрез отказался взять в карбас медведя, да и вообще он был недоволен, что случай связал его с этими еретиками и табачниками. Кто их знает, что за народ! Да и на людей-то они мало похожи: беспоясые, лохматые какие-то и копченые. Особливо этот старый колдун, который, не оглянувшись ещё как следует, с первых же слов попросил у Семена Пафнутьича табачку. И что они делали здесь целых шесть лет, в этой пропадине гиблой?
Семен Пафнутьич, сидя на корме, глядел, нахохлившись, на вороха шкур, которыми Тимофеич, Степан и Ванюшка загрузили весь карбас, на куски янтаря и охапки рыбьего зуба. Нет, тут что-то нечисто! Надо будет сказать об этом Никодиму, на то он и приказчик, чтобы разобраться в таком деле. А Семену Пафнутьичу что? Его дело мельничье: засыпал в корытце, смолол – и крышка. Ему как скажут, так он и сделает. Сказано – взять на лодью, если кто там в крайности пропадает, он и возьмет. Но пусть уж этот бык Никодимка разберется – в крайности или не в крайности, – на то он и приказчик. А вот ошкуя Семен Пафнутьич не возьмет в карбас, не возьмет – и шабаш. Где это слыхано, чтобы ошкуев в карбасах возить?..
– Ну, родименький, смилуйся, уступи! – уламывал его Тимофеич, глядя ему умильно в глаза. – Он тут с нами пять лет бедовал... Он к нам привык... Как же ж он теперь без нас?.. А? Сделай милость!..
Читать дальше

![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)