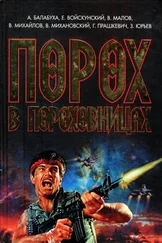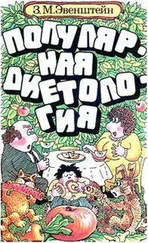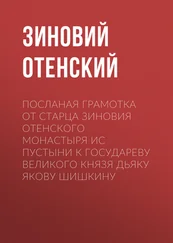Атаман говорит:
«Поди третий; что они там так долго?»
Ну и третий так же солдат голову р-раз, а туловище только ту-ту-ту. Атаман говорит:
«Видно, и вовсе все знакомы; дай-ко я!»
Выстал, голову показал, солдат тесаком по шее р-раз – голова на вышку, туловище наземь.
И больше солдат не слышит там разговору никакого. Тогда товарища своего тырк в бок, а тот только фырчит да головой мотает: заспался совсем.
«Встань-ко, – говорит, – царский охотник Алексеевич, что у меня наделано! Пойдем-ко мы вниз».
Растыркал он своего попутчика, и пошли они вниз. Ну, видят, что разбойничий стан.
Солдат приступил к старухе:
«Показывай, старая ведьма, где сундуки с деньгами».
А старуха видит, значит, что беда неминучая, и повела его в подизбицу, а там сундучище – во! И солдат напихал себе золота, денег тех, ефимков [28] Ефимок – старинная серебряная монета.
да червонцев, куда только – и за пазуху, и в голенища, и по карманам, и в шапку, и пихать больше некуда, идет да златинками [29] Златинки – всякого рода золотые монеты.
звенит, заливается, что твои бубенчики троечные.
«Ну, теперь, – говорит, – старая ведьма, покажи нам дорогу, как нам из твоего логова выбраться».
А старуха им:
«Поезжайте, – говорит, – этим путиком – будете на питерской дороге».
И поехали они тем путиком и выехали на питерскую дорогу. И Алексеевич, царский охотник этот, говорит:
«Мне, – говорит, – тут надо. Прощай пока, а придешь в город – приходи ко дворцу».
Солдат идет один, шапку с ефимками в руках держит да золотой своей начинкой позванивает. А Петр-то везде, где ехал, приказал повсюду корчмарям да кабатчикам солдата безданно-беспошлинно вином поить. И солдат по дороге заходит в царские кабаки:
«Давайте мне винца: у меня денег сколько угодно».
А кабатчики эти и винокуры поят его вином и денег не берут, ни ефимков его, ни червонцев – так безданно-беспошлинно, за-спасибно ему подносят.
И приходит солдат в Питер. Тут сразу захватили его в окровавленной одежде да с конвоем привезли ко дворцу. И ведут его по золотой лестнице через золотые покои, через триста тридцать три покоя, и солдат тем покоям уже счет потерял, и даром что пехотный – ходить привык, а упарился весь, пристал и идти дальше отказывается. А конвойные ему:
«Ты, – говорят, – не можешь отказываться, ты, – говорят, – присягал».
Служивый видит, что верно – присягал; тужится и топает дальше. И притопали они в самый большой покой; а там – видит солдат – сидит царский охотник в богатом уборе и с ним разные вельможи, как индюки надуты, как павлины расцвечены.
Солдат обрадовался.
«Здорово, – кричит, – Алексеевич! Каков ты?.. Эк ты расфуфырился! Я чай, не праздник сегодня».
Его тут стали тыркать в бок: молчи, мол, дурак, головы тебе не жалко, не видишь, с кем говоришь?
А Петр ему руку протягивает, благодарит.
«Вот, – говорит, – тебе чистая отставка. Поезжай забери себе всё это имение у разбойников, и всё это да будет твоё. А после этого живи как знаешь».
Вот!..
Тимофеич умолк. В избе было тихо. Никакие шумы не доносились и со двора. В прорубленных высоко над землей оконцах ещё не было заметно признаков рассвета. Степан, Ванюшка и Федор крепко спали. И Тимофеич, зевнув и пожевав губами, снова растянулся на остывающей уже печи, упрятав бороду в сибирку и укутав оленьей шкурой ноги.
Федор и Ванюшка, заснувшие во время рассказа Тимофеича, ещё глубже погрузились в предутренний сон, сразу после того, как Тимофеич перестал хрипеть у них над ухом о ножах и ефимках. И скоро к сопелкам и дудкам уже спавших присоединились могучие трубы Тимофеича, находившегося уже теперь в краю, далеком от пустынного острова с его тьмою, льдом и снегом.
VIII. СТЕПАН СЛЫШИТ СОБАЧИЙ ЛАЙ
Степан с утра же, как только встал, принялся налаживать новую рогатину всё из того же отточенного на камне крюка, сбитого накануне рассвирепевшей медведицей. Бревнышко, которое он выбрал для древка взамен сломанного, было точно железное. Тяжелое и твердое, неведомой породы, оно как нельзя более подходило для рогатины, но надо было глядеть в оба, как бы, обтесывая колышек, не повредить топора.
Взлохмаченный Тимофеич, слезший с печки, сидел на обрубке, босой, посредине избы, то и дело зевая, но столь раскатисто, что Степан переставал на минуту стучать топором, а спавший ещё Федор вздрагивал во сне и начинал беспокойно ворочаться на своем ложе. Ванюшка уже давно проснулся, но ему лень было вылезать из-под нагретого полушубка, и, лежа на спине, он молча наблюдал, как черные оконницы сначала посинели, потом незаметно стали голубыми и, наконец, серыми, такими же, как этот серенький зимний день, пришедший на смену долгой суматошливой ночи. Как совсем рассвело, Степан бросил возиться с рогатиной и, захватив с собою лук, стрелы и одну из пик, пошел со двора.
Читать дальше

![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)