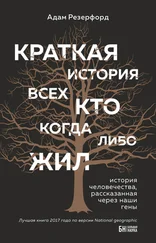Видеть семена Реформации в духовном кризисе одного человека – значит преуменьшить важность интеллектуальной и культурной атмосферы, в которой находился Лютер. Разумеется, он был не одинок в размышлениях о смысле и целях христианской жизни. В течение десятилетий, предшествующих личному осознанию Лютером того, что значит быть праведным, как внутри, так и за пределами институциональной церкви раздавались призывы к реформам, и некоторые из них были реализованы в альтернативных воплощениях религиозной жизни, а также в открытом неприятии богословия и практик поздней средневековой Церкви. Сегодня уже невозможно связывать «успех» Реформации только с «разложением», царившим в средневековой Церкви; но взгляд на Реформацию как на некий «плод средневековой теологии» и поныне можно считать верным ракурсом для оценки интеллектуальных истоков лютеровского кризиса и его очевидного преодоления. Несмотря на насущную необходимость реформ (а может, благодаря ей), вовсе не собиравшаяся умирать Церковь позднего Средневековья была вполне энергичной, мощной и уверенной в себе силой, к тому же глубоко укоренившейся в обществе [50] Обсуждение этих вопросов в разном контексте см.: N. Tanner . The Ages of Faith: Popular Religion in Late Medieval England and Western Europe. London: I. B. Tauris, 2008; и применительно к Англии см.: G. Bernard . The Late Medieval English Church: Vitality and Vulnerability Before the Break with Rome. New Haven, CT: Yale University Press, 2012.
. Церковные власти всячески старались подавить не только еретиков, но и критиков папства, правда, эти усилия не только были реакционным откликом, но и обнажали наличие внутри самой Церкви повсеместно проявляющегося духа перемен. Более того, они свидетельствовали об определенных институциональных колебаниях. Виклиф, Гус, Эразм Роттердамский и Лютер – все они были выходцами из этой интеллектуальной среды, точно так же, как братства общей жизни, бегинок и свободного духа стали практическим воплощением последствий подобных колебаний. Но если множественность отражала жизнеспособность Церкви, то свобода действий вела к ее уязвимости. Алистер Макграт писал:
<���…> В позднесредневековый период существовал поразительно широкий спектр теологий оправдания, охватывавший практически все варианты, которые Карфагенский собор официально не признал еретическими [51] На разных Карфагенских соборах были осуждены разные ереси. Так, в 411 г. Собор осудил донатистов, а в 418-м – пелагианство. Но, возможно, в цитате имеются в виду соборы, созванные Киприаном Карфагенским в середине III в. На этих соборах победила формула Киприана: «Тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет Матерью Церковь», то есть спасение без заступничества/посредничества Церкви невозможно. На этом зиждется учение католической, византийской и Русской православной церквей. Именно этот постулат в ходе Реформации стал отрицать Лютер.
. В отсутствие какого-нибудь определенного авторитетного заявления, касающегося того, какой из этих вариантов (или даже диапазон вариантов) может считаться подлинно католическим, решение этого вопроса было оставлено на усмотрение самих богословов. Таким образом, бесконечный доктринальный плюрализм стал неизбежностью [52] A. McGrath . The Intellectual Origins of the European Reformation. Oxford: Wiley, 2004, p. 27.
.
Полное отсутствие сколь-нибудь авторитетного руководства привело к тому, что богословские мнения начали смешиваться с официально принятой догмой. Такая ситуация, хотя и подрывала авторитет Церкви, позволяла множеству мнений существовать без подавления. Кризис церковного авторитета развивался одновременно с доктринальной разнородностью, что создавало побудительную и тревожную обстановку, в которой сомнения Лютера вызвали волнение и без того уже неспокойной поверхности [53] Термин «урожай средневековой теологии» взят из одноименной книги Хайко Обермана. См.: H. Oberman . The Harvest of Medieval Theology: Gabriel Biel and Late Medieval Nominalism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963. См. также: Bast . The Reformation of Faith; A. E. McGrath . The Intellectual Origins of the European Reformation. Oxford: Oxford University Press, 1987; S. Ozment . The Age of Reform, 1250–1550: An Intellectual and Religious History of Late Medieval and Reformation Europe. New Haven, CT: Yale University Press, 1981.
. Из всего этого становится ясно, что сформулированная в 95 тезисах Лютера критика Церкви не была простым началом чего-то нового. Если говорить штампами, то можно сказать, что его тезисы были в такой же степени концом начала, в какой они были началом конца, восходя к богословию XV века, питаясь религиозными, социальными и культурными тревогами века шестнадцатого и одушевляясь внутренним конфликтом одного человека, который был, с одной стороны, глубоко личным, а с другой – общезначимым.
Читать дальше
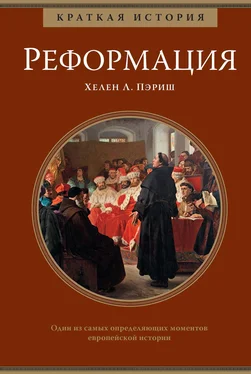
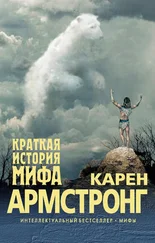



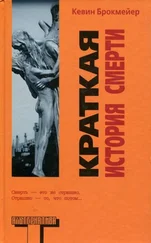
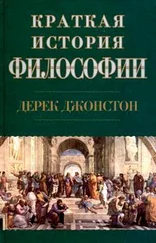

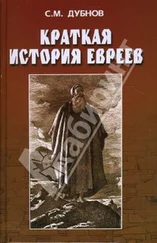
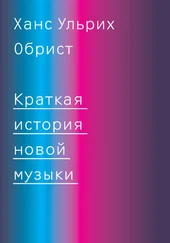
![Хелен Пэриш - Краткая история - Реформация [litres]](/books/389963/helen-perish-kratkaya-istoriya-reformaciya-litres-thumb.webp)