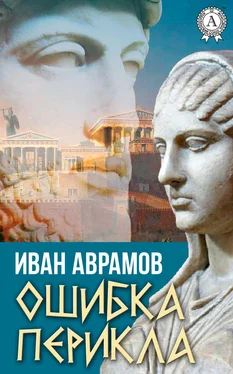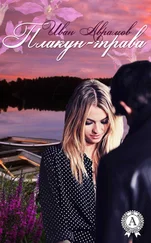— А вот насчет бродяги ты ошибаешься, — строго, с достоинством ответил пришелец. — Я афинский воин Сострат, сын Феака из Форика.
— Говори, что ты хочешь.
— Или — или!
— Что значит: или — или? — всем телом вскинулся Мелант, и Сострат заметил, как напрягся, подобрался, как перед прыжком, стоящий поодаль раб-ливиец.
— А то и значит: или — или. Я ведь предупреждал: ты услышишь из моих уст всего два слова.
— Твое «или — или», безумец, темнее любого, самого непонятного, оракула. Эй, воин, не стукнули ли тебя мечом по башке в твоей последней войне?
— Не беспокойся, я в здравом уме. Ладно, пора расшифровать мой темный, как ты говоришь, оракул. Слушай меня очень внимательно, уважаемый Мелант: или мы с тобой поладим, разойдемся, так сказать, полюбовно, или ты предстанешь перед судом гелиастов. И там уж тебе несдобровать. Кто ты таков на самом деле, узнают все Афины.
— Что ты имеешь в виду? Клянусь Зевсом, ты не уйдешь отсюда целым.
— Не горячись, Мелант. Тебе говорит о чем-нибудь Козья тропа, самая труднопроходимая в Лаврийских горах? Сплавляя по ней нечто сверкающее, блестящее, ты быстро, сказочно и разбогател, верно? Металл, столь необходимый Афинам, попадает в руки их врагов. Надо ли подробно рассказывать, сколько серебра и как ты тайно переправляешь на Левкаду и в Коринф? Или приберечь эти сведения для гелиэи?
— Сколько ты хочешь? — Мелант сцепил на животе мягкие ладони, они заметно дрожали.
— Двенадцать золотых статеров.
— Ты с ума сошел — это целое состояние!
— Может, и так. Но, во-первых, разве ты не присвоил себе гораздо большее богатство, которое принадлежало не тебе, а всем гражданам? И, во-вторых, разве не лучше расстаться с дюжиной статеров, избежав темницы и конфискации всего бесчестно нажитого имущества?
— Мне нужно подумать.
— Не возражаю. Но через два дня я приду за ответом. И не ночью, а среди бела дня. Прости, что из-за меня ты на некоторое время покинул своих гостей.
— Пожалуй, сегодня самый дорогой гость у меня — это ты, — злобно кривясь, прошептал Мелант. — Такой дорогой, что впору проводить тебя одиннадцатью веслами. [93] То есть со всеми почестями.
Домой Сострат возвращался в отличном расположении духа. Кажется, золотой карась с серебряными плавниками у него на крючке. Причем так сидит, что не сорвется. А воображение… Воображение рисовало яркую, заманчивую картину будущего благоденствия: дом — полная чаша, Клитагора с утра до вечера перебирает изысканные наряды, дети отданы в ученье к лучшим философам, математикам и поэтам Афин, а сам Сострат, состоятельный, уважаемый человек, прямо-таки кожей ощущая, как красиво струится, ниспадает долу его тонкотканный гиматий, степенно входит на агору, и ротозеи, болтуны и бездельники почтительно расступаются перед ним, завистливо и зачарованно глядя вслед. А те, кто не успел узреть его в полном великолепии, несутся, сломя голову, за ним, чтобы обогнать и засвидетельствовать свое почтение, так бегут, что в ушах у Сострата уже не разноголосый шум рыночной площади, а один лишь сплошной топот. О, коварный Плутос! [94] Бог богатства.
Ты так крепко берешь в свои объятия человека, что в считанные мгновения способен сделать из него законченного глупца. Сострат резко обернулся и тотчас понял, что топот ему, увы, не померещился, три тени стремительно, словно желая взять его в кольцо, приблизились, надвинулись, и наступила странная тишина, в которой отчетливо различалось надсадное, прерывистое дыхание преследователей да тревожный шелест платана-исполина, чей необхватный ствол смутно белел в кромешном уличном мраке. А прямо над собой Сострат увидел два ряда громадных оскаленных зубов и жутко выкаченные белки уже знакомых глаз. Раб-ливиец! Он-то уже и опускал на голову Сострата тяжеленную палицу. Как спелая тыква, раскололась бы она, если бы инстинкт самосохранения, а, может, старая боевая выучка, не заставили Сострата упасть на колени и круто отклониться вправо. Рука его едва нащупала рукоять меча, как в голове дьявольски зазвенело: ливиец, хоть и не до конца, все же успел придать удару нужное направление — палица со страшной силой скользнула по Состратовой голове, едва не оторвав ему левое ухо. А вообще-то жизнью он оказался обязанным старому шлему, обзаведшемуся сейчас еще одной доброй вмятиной. Шлем со звоном покатился по каменистой улице, а Сострат, завалясь на левый бок и пронзенный острой болью в локте, понял, что медлить нельзя: его, лежащего, сейчас добьют. Ливиец не ожидал, что поверженный вскочит на ноги, как кошка. Эта беспечность оказалась для него роковой — меч Сострата с хрустом, как топор полено, поделил его лоб напополам. Черная гора рухнула наземь. Один глаз, залитый кровью, дернулся и закрылся, другой смотрел на Сострата снизу вверх свирепо выкаченным белком. Ярость бойца, привыкшего рубить, колоть, душить, добивать врага хоть оружием, хоть голыми руками, овладела всем естеством Сострата… И напрасно. Сражаться ему было не с кем: остальные двое при виде бездыханного богатыря тут же дали деру. Сострату было неведомо, кто они, рабы или просто прихлебатели Меланта, есть ли у них оружие или нет, одно лишь знал твердо: он с ними справился бы. Но трусам умирать не хотелось: они, видать, чувствовали себя за ливийцем, как за каменной стеной. Опять же: многие дома львы, а в битве — лисицы. Сострат вздохнул, отыскал в темноте откатившийся далековато шлем, но надевать не стал, а понес в руке — голова после удара побаливала, пекло и слегка надорванное ухо. Шагал споро, сторожко прислушиваясь, хоть и догадываясь, что погони больше не будет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу