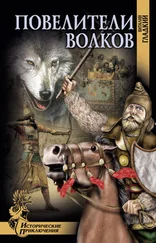— С русской журналисткой? Я в курсе. Пусть готовится. Я буду через час. Передай ему это немедленно, и не придумывай всяких глупостей. Это действительно важно для него.
— А при чем тут ты?
— А вот что сейчас не важно — чтобы я тебе объяснил, при чем тут я. У меня нет времени читать тебе вслух «Сагу о Форсайтах»… Просто пойди к нему и передай. Пусть меня дождется. Добавь, что я был не вполне вежлив, и такое поведение не простительно даже для старика, выжившего из ума. Добавь, что хочешь, по вкусу, как соли и перца, но передай не медля. Через час я буду у него. У вас.
Он закончил разговор. Звали на выход. Женщина рада была бы посодействовать отмене встречи с русской журналисткой, но особое чувство к Бому победило в ней. Немец еще и издевается над ней, зная о ее нелюбви к толстенным книгам. Тоже мне, «Сага о Форсайтах»! И она отправилась в покои к Эрику и сообщила, что Бом скоро будет, ни слова не добавив о наглости старика. Тогда Эрик не медля связался с портье и попросил через пол часа пригласить журналистку к нему. За пол часа без Бома он не выдаст ей никакой военной тайны, пошутил он сам с собой. Хватит прятаться за спину старика. Да, он желает сам и первым. Желает чего? А сам еще не знает, чего. Нового, творческого, откровенного и смертельно важного. Нечто важное нынче состоится. Или случится. И за порог он выйдет сам, а не за ручку с заботливым опекуном!
А Эрих Бом все-таки показал, что такое есть немецкая кость трудовая — старый человек, испытывающий ноющую боль в тазобедренном суставе, выйдя из порта, наклонился вперёд и перешёл на широкий, упрямый, как против резких порывов ветра, шаг, когда ноги успевают поймать падающее вперёд тело, и благодаря этому шагу он успел на уже отходящий скоростной поезд в Вену. Не через час, а через сорок минут Бом оказался в «Бристоле» и пересекал холл отеля. Спасибо, конечно, и таксисту-афганцу, с ним Бом умело и легко нашёл общий язык, обменявшись правильным словцом о хорошем времени старой доброй войны против советских «товарищей» — не то, что нынешние пендосы, которых не вытянешь на открытый бой — и афганец, со слезой вспомнивший пуштун-валаи, довёз «красного немца» до цели мухой, как своего. Бом, минуя холл, на ходу быстрым глазом сфотографировал посетителей. Среди них он не обнаружил женщину, похожую на журналистку. И мужского лица, ради которого он тут, тоже не обнаружил. Вот он на этаже. «Ещё и в номера не впустят», — по-русски посетовал Эрих. Так и есть, дверь на запоре. Бом, однако, настойчиво постучался, сначала костяшками пальцев, а там и кулаком. «А петли гуляют. Эх, австрийцы, лентяи…» — отметил немец.
Из номера, что в конце короткого коридора, рассчитанного на две сюиты, выглянула молоденькая горничная. Ее удивленные глаза обратились к посетителю. «Хорватка или албанка? Албанка», — определился Бом безо всякой цели. Он ещё настойчивее забарабанил в тяжелую, старую и неплотно вогнанную в косяк дверь. Смуглое личико исчезло, хотя дверь в хозяйственную подсобку осталась приоткрыта, оттуда доносился резкий запах моющего средства.
Бом опустил на пол, к стеночке, свою суму переметную, приложил большое ухо к дереву, вслушался долго, как делают в жару долгий глоток. После этого, придя к какому-то заключению, он достал из кармана плаща предмет, похожий на визитницу, извлёк из неё карточку — и через секунду дверь подалась, отворилась. Бом тихо зашёл внутрь и беззвучно затворил за собой дверь. Стоило ему исчезнуть из коридора, голова горничной возникла вновь.
Глава 22. О том, как умер Яша Нагдеман
Рав Яша Нагдеман имел время и навык думать о своей жизни. За месяц до смерти он узнал точный день своего ухода — это будет тот Шабат, который предварит Пасху. Пасху ему уже не встретить.
Яше не надо было готовиться к уходу — оказалось, что вся предшествовавшая жизнь и была подготовкой, и вот он как раз готов. Жизнь — его жизнь — величайшая ценность, равная всему мирозданию. Так гласит его закон божий. И он с законом в этом согласен. Даже не то, что согласен, а един. И все-таки есть одна штука, которую сильному логикой не вместить, не понять. Так какая ценность вселенская — эта жизнь — если за неё страха нет? А страха нет, если она для чего-то ещё, а не для себя самой. Подмножество выходит за пределы множества. Мойше — не вместить. Математику тут тяжело. Да и Эрику трудно, хотя он совсем иным вышел прибором — не измерительным. Яша видел младшего сына таким — пока Мойша в миллиардный раз открывает для себя порядки мироустройства, Эрик просто существует в инерции благости. И в этом разделении энергий, полученных его сыновьями через его, Яши, тело и дух, он усматривает высший смысл и тонкую субстанцию, о которой Мойша говорит как о материи, легко переходящей из состояния в состояние, но не обратно — от братства разных энергий к гражданской между ними войне. Яша доволен сыновьями, доволен невестками, доволен внуками, всем их житейством и творчеством. Яша не привык погружать себя в воспоминания. Поэтому оставшийся ему месяц он… поет. Он пел в самом прямом смысле этого слова, так что старшая из невесток, собравшихся при Яше, который не собирался скрывать от кого-то, что смертен — завела между домашних женщин речь о психическом состоянии свекра, и раз за разом воспроизводила эту тему, пока про это не прознал Мойша, а, прознав, поднял голос и наложил свой запрет — не смейте даже думать в ту сторону, умерьте фантазию и укоротите языки… Женщины такого от Мойши не ожидали и в самом деле притихли. «Курицы, — зло обозвал их математик, используя непривычную в их круге и в этих стенах лексику — курицы, он так молится. Он ведь счастлив!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу