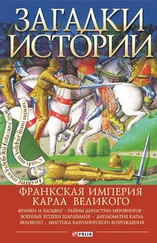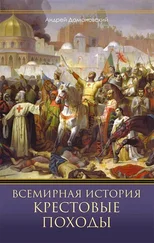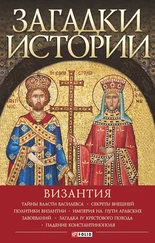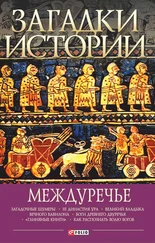Следует, видимо, особо подчеркнуть, что Византия воспринимала себя отнюдь не как наследницу Римской империи (это утверждение нередко можно встретить в научно-популярной литературе), но и была, собственно, самой Римской империей, продолжившей свое существование в средневековье вплоть до гибели в 1453 г. под кривой саблей османского завоевания. Названия «Римская империя», «Римская держава» в их эллинизированном (попросту – греческом) варианте «Ромейская империя», «Ромейская держава» активно использовались подданными императора-василевса для обозначения своего государства вплоть до его гибели в середине XV в. и после нее. Таким образом, Византийской империи (точнее, государства с таким самоназванием) – не существовало, но существовала империя ромеев (римлян), Ромейская (Римская) империя.
Тогда откуда же взялось привычное нам название Византия, или Византийская империя, почему и зачем оно возникло, заменив вполне пригодное и, главное, соответствующее историческим реалиям название Римская (Ромейская) империя? Как и почему оно закрепилось и прочно укоренилось в науке и речевом обиходе? Ответы на эти вопросы следует искать не в самой Ромейской империи и не во время ее существования. Это название, точнее – латинский термин Byzantium (Византия), появилось уже после гибели этого средневекового государства, в середине XVI в., его применил немецкий филолог, публикатор античных и средневековых греческих литературных памятников Иероним Вольф (1516–1580) из Аугсбурга. Написав в предисловии к одному из трудов средневековых греческих (византийских) историков (Вольф издал произведения Никиты Хониата, Никифора Григоры, Лаоника Халкокондила) обобщающий очерк по истории Восточной Римской империи в Средневековье, Вольф назвал ее Византией, чтобы провести разграничение между собственно Римской империей античности и ее продолжением в средние века.
Название Византия было, таким образом, изобретено в эпоху Возрождения и происходит от названия древнегреческого городка Византий, на месте которого был основан в начале IV в. Константинополь, ставший впоследствии столицей обновленной империи. Предложенное Вольфом название довольно быстро укоренилось в научной литературе, широко использовалось историками и философами «просвещенного» XVIII в. и, в итоге, закрепилось и в исторической науке, и в общественном сознании как правильное название империи, постепенно сформировавшейся из восточной части Древней Римской империи с центром в городе на рубеже Европы и Азии и дожившей, при всех исторических перипетиях, со всеми территориальными, социальными, экономическими, административными etc изменениями до середины XV в., когда пала ее столица.
Видимо, мы и в дальнейшем будем следовать уже устоявшейся традиции и называть Ромейскую империю, Романию средневековья, Византией, хотя по отношению к ней, ввиду произошедших в течение IV–VII вв. трансформаций цивилизационного становления, вполне может быть применено предлагавшееся исследователями условное обозначение «Священная Христианская Римская империя греческой нации». В этом определении отдана дань тем трем китам, на которых зиждилась храмина Византийской цивилизации: ортодоксальному (православному) христианству, имперской древнеримской государственности и древнегреческой культуре-образованности. В той или иной степени к подобному соборному определению склонялись уже сами византийцы, к примеру Константин Философ, который в беседе с иудеями, упоминая о «римском царстве», утверждал: «Не владычествует больше, ибо минуло, как и иные (царства), в изображенном (им) образе, ибо наше царство не римское, а Христово…», – подразумевая, несомненно, не гибель Древнеримской империи, но ее перерождение из языческой в христианскую.
Иероним Вольф, которому мы обязаны названием Византия, заложил в своем первом в западноевропейской науке очерке истории византийского государства также первичное восприятие этой средневековой империи, которое также стало традиционным. Полагая своей целью представить, как «нашим современникам могла быть предложена византийская история в целом» («integrum totius Byzantinae historiae Corpus»), ученый, во-первых, подал ее в виде неполноценной монархии, на примере которой следует учиться, как избежать ошибок «слабой» империи; во-вторых, связал византийскую историю с современностью – геополитическими проблемами Европы XVI в. Видимо, уже с того времени в интеллектуальной, прогрессивной Европе начало постепенно утверждаться пренебрежительное, высокомерное отношение к Византии и всему византийскому как символу косности, отсталости, твердолобой ортодоксальности, коварства, подлости, интриг, кумовства, заговоров, коррупции, загнивания и прочих негативных малопривлекательных явлений мировоззренческого характера и общественного устройства. И уже с того времени зародилось противопоставление прогрессивного динамичного Запада (собственно, Западной Европы и ее производных) и отсталого (отстающего) Востока, наиболее ярким проявлением которого в Европе стала Византия.
Читать дальше
![Андрей Домановский Загадки истории. Византия [litres] обложка книги](/books/396271/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-vizantiya-litr-cover.webp)
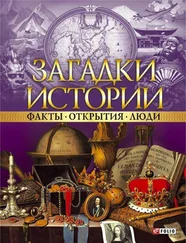
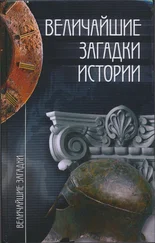
![Андрей Жвалевский - Банальные истории [litres]](/books/388477/andrej-zhvalevskij-banalnye-istorii-litres-thumb.webp)
![Андрей Домановский - Загадки истории. Крымское ханство [litres]](/books/396272/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-krymskoe-hanst-thumb.webp)
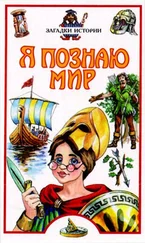
![Андрей Ланиус - Грибные истории [litres самиздат]](/books/437217/andrej-lanius-gribnye-istorii-litres-samizdat-thumb.webp)