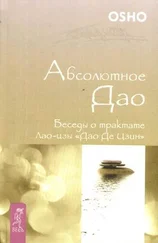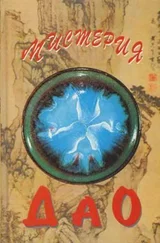Он как-то смешался, перестал смотреть твердо мне в глаза, отвернулся, взял со стола карандаш, стал вертеть его в пальцах. Сомнения, значит, все же есть в нем сомнения…
– Боевики не убивали людей, а казнили преступников, виновных в смерти десятков, сотен рабочих. Террор не принес результата, того, на который был рассчитан. Мы не поддерживаем индивидуальный террор.
– А если бы принес тот результат. И какой, кстати, по твоему мнению, это должен быть результат?
Продолжая мучить мой карандаш, он ответил:
– Террор должен был подтолкнуть массы к выступлению… к восстанию…
По-моему, он захлебнулся в своих словах. По-моему, он никогда раньше не проговаривал этих своих истин вслух. И сейчас, проговаривая, захлебнулся. Одно дело – читать глазами, другое дело – выговорить вслух так, чтобы убедить кого-то другого. На мгновение мне показалось, что я не то чтобы победил, нет, но заставил его задуматься над тем, что жило, билось в его мозгу. Мне показалось.
– Может статься, ты решил, что я агитирую тебя. Нет, Евсей, ни в коем разе. Это бессмысленно. Есть только один путь. Один, понимаешь. Рабочий класс, крестьянство и интеллигенция. Только эти слои, люди, зарабатывающие своим трудом, только они способны идти по пути революционного преобразования общества. Остальные – на обочине. Остальных сметет революционный вихрь.
Мне хотелось спросить его: «А я? Где он видит мое место?» Но я не спросил, не успел.
– А ты, Евсей, ты – рантье, нет никакой разницы между тобой и капиталистами. Ты – маленькое звено империализма. Ты – обочина.
Тут карандаш в его кулаке переломился пополам, и он сжал оба обломыша так, что костяшки пальцев побелели. И тихо, спокойно, как о давно решенном, сказал:
– И мне стыдно, что я, социалист-революционер, живу в твоем доме, что я и моя семья живем в коей-то мере за твой счет, за счет приспешника империализма. Не этично. Именно поэтому я пытался съехать от тебя еще осенью. Но ты так возражал… И Ксения тоже не хотела уезжать… Но вот теперь все точки над «и» расставлены. Пути наши разошлись окончательно и вряд ли однажды пересекутся.
Бросив на стол два карандашных обломка, Вениамин поднялся и вышел из комнаты.
«Пути наши разошлись…» Пути… Вот и он тоже говорит о пути. Видимо, Вениамин нашел свой путь. А я? Я сидел в своей комнате, не зажигая света. Мне было горько. Горько в самом прямом смысле этого слова, до горечи во рту, на языке, на губах. Горько. Вот если бы он кричал на меня, вскакивал, махал руками, ругал бы меня… Тогда бы я мог думать, что, если кричит, значит еще сомневается в своих словах, значит еще не уверен в себе. Если бы он кричал, я бы мог защищаться: словами, позой, гордо так, подняв плечо, смехом внутренним, он кричит, а я смеюсь… А он не кричал.
Я все еще сидел у стола, зажег настольную зеленую лампу, пытался что-то читать, даже не помню что. Не отложилось в памяти. Постучавшись, вошла Ксения. Подошла сзади, положила руки свои мне на плечи:
– Ты прости его…
Я похлопал ее по тыльной стороне ладошки:
– Не за что прощать, он меня не обидел. Горько только. Он был мне самым близким, да нет, пожалуй, нынче единственным другом. И я думал, что и я ему друг. А он променял эту человеческую дружбу на социалистическую трескотню, на этику своей партии. Он не понимает, что партийное временно, человеческое – постоянно. Я не могу тут ничего изменить. Но прощать мне Вениамина не за что. Он ни в чем передо мной не виноват. Это его путь, его правда.
Ксения помолчала с полминуты, все так же держа ладони на моих плечах. Потом сказала:
– Я всегда буду считать тебя своим другом. И надеюсь, что и ты тоже. Что бы ни случилось. Ты будешь считать меня своим другом. Навсегда.
Потом она ушла к себе.
Через два дня Кудимовы съехали.
* * *
Птушка прислала письмо. Только это и утешило меня. Письмо, как всегда, щебечущее, поющее. Очень пасхальное. Воскрешающее. Недалеко от тетушкиной деревни – имение одной молодой вдовы Лидочки. Лидочка эта – ровесница Птушки, и, видимо, поэтому они быстро подружились. С той поры, как тетушка Ди-Ди раздумала помирать, она и Жозефина стали частенько наведываться к соседке, проводя дни на прогулках вдоль Оки, а вечера за фортепиано с пением романсов «Ямщик не гони лошадей», «Отцвели хризантемы» и всего, чего душа пожелает.
На Пасху отправились все они в церковь в большое село, примыкавшее к Лидочкиному поместью. А после службы вышли за околицу, там как раз парни ставили качели. Вовсе не для детворы, как можно подумать. Оказывается, есть такой обычай деревенский, я не знал. В пасхальное утро на открытом месте посреди деревни или за деревней ставят высокие качели, два столба с упорами, а к перекладине подвешивается на прочных веревках длинная доска. После полудня, похристосовавшись крашенками, идут парни, девки, подростки к этим качелям. Усаживают двух девок посредине спина к спине, а парни, тоже двое, встают по концам доски и начинают раскачивать. И тут начинается самое веселье. Специальными приговорками у сидящих на качелях девок выпытывают, кого те любят. И раскачивают все выше и выше, пока не признаются. Иной раз и солнышко раскручивают. Визг, смех до самого неба. Все балагурят, красуются друг перед другом. Еще песни поют специальные, качельные. Потом хороводы с песнями водят. Птушка прислала мне слова одной такой песенки, «Красное яичушко» называется:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу