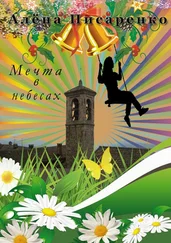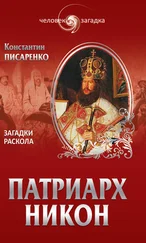К лету страсти улеглись. Студенческая «революция» завершилась победой Боголепова и локаутами в университетах с перерегистрацией всех учившихся в них, высылкой неблагонадежных и солдатской лямкой для исключенных вовсе. Суд чести писателей 15 мая вынес Суворину порицание, мягкое в сравнении с тем, что ожидалось. 28 апреля вышел первый номер «России», ловко отобравшей у «Нового времени», а, значит, и у партии, протежирующей иностранный капитал, тысячи читателей и подписчиков. Имя же клеветника, бросившего тень на репутацию Суворина, осталось неизвестным. Но, видимо, не для Витте.
Тайну, погубившую Мамонтова, сановник узнал в середине или в конце июня 1899 года и в пылу гнева не смог сдержаться. То, что Савву Ивановича разорили из мести, а не из корысти, подтверждает факт увеличения размера суммы, нужной для его освобождения из тюрьмы под залог, с установленных законом 763 000 рублей до придуманных кем-то пяти миллионов. Кем?! Знаменитому узнику – меценату и альтруисту – сочувствовала вся Москва, весь цвет российского искусства, столичная и провинциальная интеллигенция. И, несмотря на это, Мамонтов просидел в заточении до 19 февраля 1900 года, пока по состоянию здоровья не удостоился права ожидать вердикта присяжных дома. Суд присяжных длился неделю, с 23 по 30 июня 1900-го. Подсудимых – вышеперечисленных членов правления Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги – оправдали. Хотя от имущественных потерь и не спасли. В общем, Витте за разгром «Нового времени» отплатил спонсорам «России» сполна, а заодно… вольно или невольно продемонстрировал московской группе текстильных «королей», что их надежды на мирное соперничество с конкурентами из Питера и с Юга России эфемерны. По всему выходило, что правительство не желало допускать чрезмерного роста «московского» влияния в российской экономике.
Понимал ли Сергей Юльевич, какую роковую ошибку совершил? Крах Мамонтова вынуждал земляков Саввы Ивановича искать иной эффективный метод борьбы за выживание. Оптимальный вариант – апелляция к монарху. Но Николай II – не Александр III. В отличие от отца, молодой царь самостоятельно разбираться в проблемах, требовавших высочайшего вмешательства, избегал. Обычно он просто одобрял советы того, кому в данный момент доверял или чей профессионализм в конкретной области ставил выше прочих. В спорных ситуациях предпочитал подержать паузу. Впрочем, в итоге принимал сторону не того, кто лучше аргументировал свою точку зрения, а кому симпатизировал сам, причем чисто субъективно. История с Н.П. Боголеповым, против которого ополчилось и студенчество, и общественное мнение, – наглядный тому пример.
Увы, это не всё. Николай II в ту пору по молодости лет мечтал о территориальном расширении Российской империи и с поразительной легкостью соглашался на войну, если кто-либо из «специалистов» уверенно обещал солидное приращение земель. Первая такая тревога произошла 23 ноября 1896 года, когда российский посол в Турции А.И. Нелидов при содействии военного министра П.С. Ванновского на совещании в Царском Селе склонил императора спровоцировать Турцию на разрыв отношений, дабы затем атакой с моря овладеть Босфорским проливом. Государь с энтузиазмом откликнулся на инициативу, проигнорировав возражения Витте. Война, грозившая стране повторением крымской эпопеи, к счастью, не началась. Судя по всему, царская родня (мать и дяди), вовремя спохватившись, заставила воинственного венценосца отказаться от опасной авантюры. Кстати, заметим, мать – вдовствующая императрица Мария Федоровна – весьма благоволила Витте, как выдвиженцу мужа, и во многом политическое лидерство министра финансов основывалось на ее покровительстве.
Итак, Николай II успокоился… на два года, по истечении которых другая «клика» – «безобразовская» (А.М. Безобразов, И.И. Воронцов-Дашков, великий князь Александр Михайлович и примкнувшие к трио А.Н. Куропаткин с В.К. Плеве) – соблазнила царя восточным проектом – присоединением к России минимум, – китайской Маньчжурии, максимум, – и Северной Кореи. Как следствие, России пришлось воевать с Японией в условиях международной изоляции и пережить позор падения Порт-Артура в 1904-м, двух громких поражений в 1905-м – на суше (при Мукдене) и на море (в Цусимском проливе).
Как видим, глава династии на роль арбитра в споре московского купечества с Витте и стоявшей за ним предпринимательской группы явно не годился. «Москвичи» поневоле озаботились поиском нестандартного способа защиты от натиска западного капитала. И обнаружили весьма действенное средство. Стачку! Если рабочие коллективы петербургских, украинских, закавказских акционерных компаний, казенных и частных, выступят против хозяев, добиваясь улучшения условий труда и быта, то инвестиционная привлекательность России для немецких, английских, французских и бельгийских банковских структур сразу же снизится. Их экспансия заметно ослабнет и замедлится. В идеале они вместе с Витте захотят договориться с теми, кто контролирует стачечное движение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
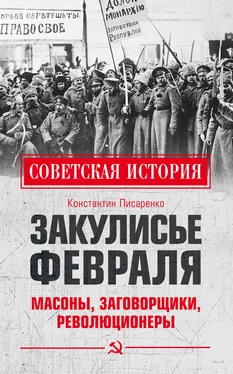

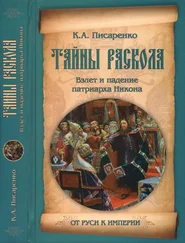
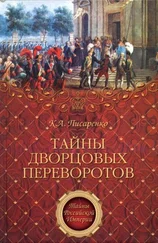

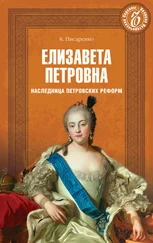
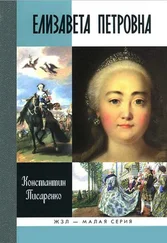
![Джон Норман - Заговорщики Гора [ЛП]](/books/430574/dzhon-norman-zagovorchiki-gora-lp-thumb.webp)