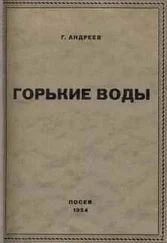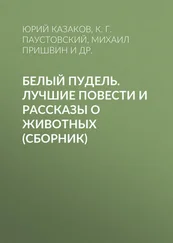— Поднимись с пола. Я не далай-лама!
И снова Пунцаг повиновался, хотя и без прежней охоты: вопросы ширетуя его пугали, и гроза, которой он боялся, еще не ушла за дымный край степи.
— Значит, все сыновья у твоего отца умирали, и он решил обмануть своих духов, отдав сына чужим богам? Твой отец умный человек… Он не говорил тебе, почему твой нечистый род откочевал сюда, в священную землю, и почему вы все поменяли свои дикарские имена? И теперь ты платишь долги рода не людям, а небу? Что ж… Тот лама подсказал твоему отцу правильное решение…
Ширетуй поднялся с ложа, прошелся по ковру, скрадывающему шаги, остановился у окна, забранного узорной решеткой. Долго стоял, вдыхая ночную прохладу, потом вернулся.
— Хорошо, хубун. Ты очистился от лжи. Оставайся моим ховраком. Я сам займусь твоим воспитанием.
— Я буду стараться! — едва не задохнулся от радости Пунцаг. — Я очень буду стараться!
Уходя из покоев ширетуя, Пунцаг вспомнил выражение глаз ламы, Жавьяна и понял, о чем думал тогда его наставник, — оставляя одного хозяина, ховрак получал другого, во много раз худшего.
Все ламы разные, как и люди. Есть ламы-аскеты, не пьющие воды и не принимающие пищи по нескольку дней; ламы-обжоры и ламы-пьяницы, не знающие меры и границ бесстыдства; ламы-деспоты и насильники, которых после очередного перерождения, по священной сансаре, [15] Сансара (санскр. «странствование») — в индуизме и буддизме учение о текучести и непостоянстве всего, круговорот рождения и смерти. Графически изображалось в виде колеса, символизирующего непрерывность перерождений. Цель жизни человека (в буддизме, ламаизме) — «спасение», т. е. достижение через самосовершенствование прекращения «сансары», а значит и страданий, и, в конечном счете, достижения высшего совершенства, растворения в небытии нирваны.
ждет презренная и глупая жизнь тигров и шакалов; ламы-вымогатели, которые и у бронзового бурхана мешок с золотом выпросят; ламы-бессребреники, отдающие все, что у них есть, даже самое необходимое, страждущим; ламы-плуты и обманщики, воры и разбойники, ничем и никак, кроме священнического сана, не отличающиеся от людей степи и глухих дальних дорог, которым они хозяева, хотя и временные… И есть, наконец, ламы-ученые, ламы-колдуны, ламы-врачеватели и целители, ламы-поэты, живописцы и музыканты, ламы-мастера Они — книгочеи, писари и толкователи книг. Многие из них в конце жизненного пути получают благословенье Лхасы и высоких лам, обретая право называться лхрамбой, доромбой или бичэг-мэрэком. Эти ламы особо уважаемые, они всегда живые символы мудрости и высшей учености…
Много всяких лам повидал Пунцаг в дацане!
Вначале ему здесь понравилось: тишина, размеренная и спокойная жизнь, всеобщая почтительность, запрет на ругань и драки. Но скоро он убедился, что все это — показное, и жизнь в ламаистском монастыре мало чем отличается от жизни в любом другом месте. А порой и опаснее. Особенно для новичков и для тех, кто не имеет никаких прав и не пользуется покровительством могущественных лам. Их могут легко запутать, втянув в водоворот неожиданных и таинственных событий, подставить под удар вместо других и даже уничтожить без всякой вины и повода.
Сперва его отослали к печатникам, растирать и накатывать краску на большие деревянные доски с вырезанными на них текстами молитв. На эти доски потом накладывали листы бумаги и шелка и делали оттиски, которые подправлялись тушью и киноварью. Это входило в обязанности тал бичег писарей-печатников. Со стороны их работа казалась веселой и даже не работой, а развлечением, игрой. Потому-то однажды Пунцаг и вызвался им помочь. Но, не зная грамоты, что-то испортил на куске голубого шелка. И хотя виноват был Пунцаг и сам признался в этом, под палки поволокли Даши, который больше не вернулся в печатню. Выгнали и Пунцага, заставив его мести двор дацана и чистить лошадей богатого монаха-ламы Баянбэлэга. И хотя тот был баньди и носил коричневые одежды, но к нему с почтением относились даже гэлуны. Жил Баянбэлэг в отдельном доме, уставленном дорогой мебелью, золотыми и серебряными бурханами, сундуками с тканями и шкафами с книгами. Про него говорили в дацане, что он дал очень большие деньги на покупку «Ганджура», [16] Ганджур (тибетск. перевод предписаний, откровений) — тибетский буддийский канон; составлен в первой трети XIV в. Создание текстов традиция приписывает Шакьямуни (Будде). Состоит из 7 разделов, 108 томов. Г. выступает в двух качествах: как предмет культа и как источник догматики.
отпечатанного в Тибете за год до прихода в дацан Пунцага.
Читать дальше