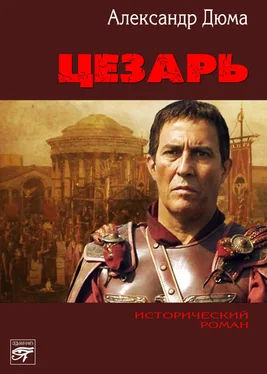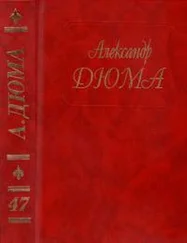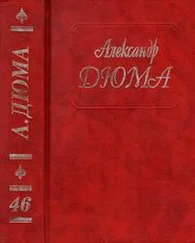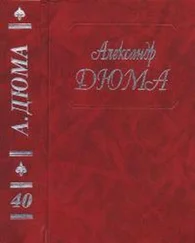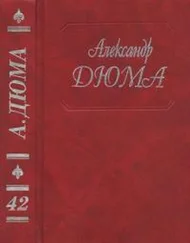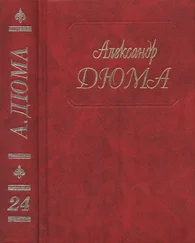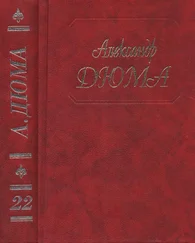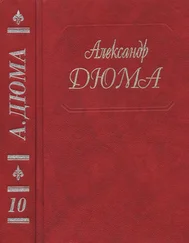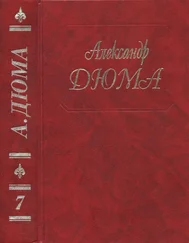– Кто этот человек, который проходит мимо, такой бледный и испуганный?
– Это Цинна, – ответил тот.
Те, кто услышали это имя, повторили за ним:
– Это Цинна.
А за несколько дней до того один народный трибун по имени Корнелий Цинна публично произнес речь, направленную против Цезаря, и того же Цинну обвиняли в участии в заговоре. Народ перепутал Гельвия с Корнелием.
Из этого вышло, что Гельвий был встречен тем глухим ропотом, который предшествует буре; он хотел уйти, но было слишком поздно. Страх, который заметили на его лице, страх, который народ принял за угрызения совести, и который был всего лишь воспоминанием о прошедшей ночи, тоже послужил к его гибели.
Ни у кого не осталось никаких сомнений, и тщетно бедный поэт кричал, что он Гельвий, а не Корнелий Цинна, что он друг, а не убийца Цезаря: один человек протянул к нему руку и сорвал с него тогу, другой разодрал его тунику, еще один ударил палкой; – полилась кровь. Кровь опьяняет быстро! в один миг несчастный Цинна был уже трупом, и уже в следующий миг труп был растерзан на куски. Из середины свалки поднялась пика, на которую была насажена голова: это была голова жертвы.
Кто-то закричал:
– Смерть убийцам!
Кто-то другой схватил пылающую головню из костра и потряс ею.
Сигнал поняли все. Народ кинулся к костру, похватал из него головни, зажег факелы, и с ревом ринулся, угрожая смертью и пожаром, к домам Брута и Кассия. К счастью, те, вовремя предупрежденные, уже бежали из Рима и укрылись в Анции. Таким образом, они покинули Рим без борьбы, и из их домов их выгнали, если можно так сказать, собственные угрызения совести.
По правде сказать, они рассчитывали скоро вернуться, когда народ, чье непостоянство было им хорошо известно, обретет спокойствие. Но буйство народа – это как буйство стихии; если она разыграется, никто не знает, когда она успокоится.
Вера Брута в то, что его возвращение в Рим будет легким и скорым, была тем более естественна, что он, незадолго до этого назначенный претором, должен был давать игры; а игры были той вещью, которую народ всегда ждал с нетерпением, независимо от обстоятельств. Но в тот момент, когда он уже готовился покинуть Анций, его предупредили, что большое число тех самых ветеранов Цезаря, которые получили от него дома, земли и деньги, входило в Рим с самыми худшими намерениями относительно его персоны.
Так что он рассудил, что из осторожности он, пожалуй, останется в Анции, хотя и даст народу те игры, которые обещал. Игры были великолепны: Брут купил для них огромное количество самых свирепых диких зверей; он велел, чтобы ни одного из них не пощадили. Он даже отправился сам в Неаполь, чтобы пригласить оттуда комедиантов; и поскольку в Италии тогда жил один знаменитый мим по имени Канилий, он написал одному из своих друзей, чтобы тот разузнал, в каком городе находится этот Канилий, и любой ценой заполучил его на игры.
Народ явился на звериные травли, на бои гладиаторов, на сценические представления; он рукоплескал им, но он не призывал Брута обратно: совсем наоборот, он воздвиг на площади собраний колонну высотой в двести футов из африканского мрамора, с надписью: Отцу отечества.
Дело убийц потерпело полное поражение; Цезарь и мертвый одержал верх над своими погубителями, как Цезарь живой одерживал верх над своими врагами. Не только Рим – весь мир оплакивал Цезаря. Иноземцы надели траур и обошли вокруг его погребального костра, выражая каждый свою скорбь по обычаю своей страны. Иудеи несколько ночей бодрствовали рядом с его прахом. – Несомненно, эти последние уже видели в нем того обещанного Мессию.
Заговорщики думали, что этими двадцатью тремя ударами кинжала они убили человека: они увидели, что в действительности не было ничего проще, чем убить тело; – но душа Цезаря осталась жива, и витала над Римом.
Никогда еще Цезарь не был более живым, чем когда Брут и Кассий уложили его в могилу. Он сбросил свою прежнюю оболочку; этой оболочкой была та окровавленная изорванная кинжалами тога, которой Антоний потрясал над его трупом, и которую он, в конце концов, бросил в костер; огонь пожрал эту старую оболочку, а дух Цезаря, тот самый дух, который Брут впервые увидел в Абидосе, а второй раз – при Филиппах, предстал в глазах мира очищенным.
Катон принадлежал закону. Цезарь принадлежал всему человечеству. И потом, Цезарь, – приступим здесь к вопросу о христианстве, то есть к вопросу о будущем, – Цезарь был инструментом в руках Провидения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу