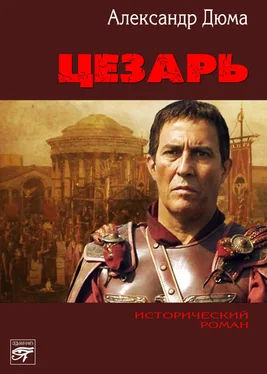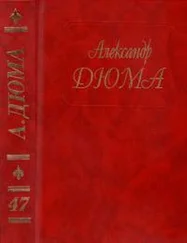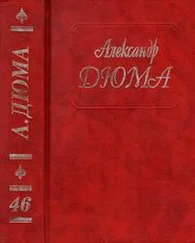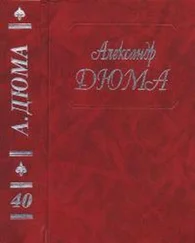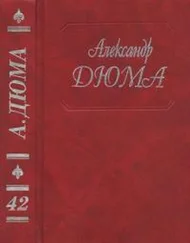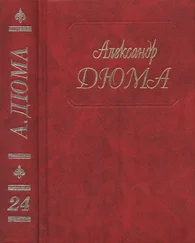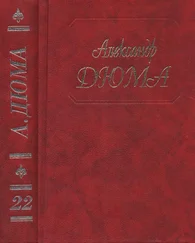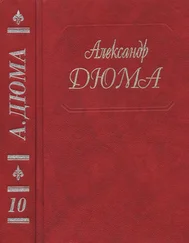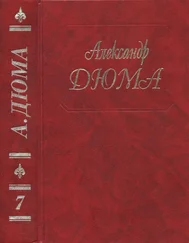«Человек, – говорит он, – презренное и чванливое животное; запаха плохо потушенного светильника достаточно, чтобы убить его во чреве матери. Когда он появляется голым на этой голой земле, ему дано только плакать; смех же дается ему не ранее чем через сорок дней. Он ощущает жизнь только через страдание, а единственное его преступление в том, что он родился . Среди всех остальных животных он единственный не имеет другого инстинкта, кроме плача; ему единственному знакомы честолюбие, суеверие, тревога, погребение, беспокойство о том, что будет после него. Нет другого такого животного, у которого жизнь была бы более хрупкой, желания – более пылкими, страх – более безудержным, ярость – более разрушительной; самая большая из его радостей не может вознаградить самую малую из его мук. Его жизнь, и без того краткая, еще более укорачивается за счет сна, который пожирает половину ее; ночи, которая без сна превращается в пытку; детства, которое проходит бездумно; старости, которая живет только ради страданий; страхов, болезней и недомоганий; и однако, эта скоротечность жизни является самым драгоценным даром, которым наградила его природа. Но при этом человек так устроен, что он хочет жить дольше; страсть к бессмертию не дает ему покоя; он верит в свою бессмертную душу, в иную жизнь; он поклоняется духам предков; он заботится об останках себе подобных. Детские мечты! Если он переживет самого себя, ему никогда больше не знать покоя. Величайшее благо жизни – смерть, смерть быстрая и безболезненная, будет отнята у нас тогда, или, вернее, станет к нам жестока, потому что станет приводить нас только к новым мукам; лишенные высшего счастья, которое состоит в том, чтобы не рождаться, мы лишимся тогда и единственного утешения, которое может быть нам дано, – вернуться в ничто. Нет, человек возвращается туда, откуда он вышел: после смерти он становится тем, чем был до рождения ». [58]
Знакомо ли вам что-либо более безнадежное и склоняющее к самоубийству, чем это ужасающее учение ничто ? Как далеко оно от того мягкого утешения, которое дает нам христианская религия, обещая другую жизнь! как далека она от приговора самоубийству, вынесенного Шекспиром:
Прощенья нет тому лишь, кто каяться не сможет!
Плиний добавляет еще:
«Среди всех богов Смерть всегда была наиболее почитаемой».
Это так, культ смерти действительно стал всеобщим; у всех самоубийц навечно на устах имена Катона и Брута, и к этим двум именам, как к колоннам из черного мрамора, они крепят створки двери, ведущей их к бездонной пропасти, которую за сорок лет до Плиния посетил Вергилий, и в которую двенадцать столетий спустя сойдет Данте.
В античные времена смерть таила в себе гибельное наслаждение, которое заставляло пылко стремиться вон из жизни, где наслаждение было без страсти и без радости.
Взгляните на императоров, которые могут все: чем они заняты, за редким исключением? Углубляют без конца пропасть извращенного безумия, в которую они ныряют. Пока Гелиогабал готовит самоубийство своего тела, плетя шнурок из пурпурного шелка, чтобы удавиться, мостя двор порфиром, чтобы разбить об него голову, вытачивая изумруд, чтобы спрятать в него яд, он одновременно убивает свою душу, топя ее в разврате и крови.
Если мы примем это ужасающее заключение Плиния, – а римляне принимали его, – что смерть есть высшее благо, а жизнь – высшая мука, то зачем жить, если можно так легко умереть? Так что, по Плинию, самоубийство – это утешение Рима, и несчастны бессмертные боги, – восклицает он, – лишенные высшего средства от скорби, которым обладает человек! [59]
И Лукан, в свою очередь, опирается на него, или, вернее, он опирается на Лукана; Лукан, который отрицает Провидение, который говорит, что всем управляет случай, и который считает смерть таким великим благом, что превращает ее в награду для мужественных:
Mors utinam pavidos vitæ subducere nolles,
Sed virtus te sola daret! [60]
смерть, которую он прославляет не потому, что она освобождает душу от земных объятий тела, но потому, что она усыпляет разумную часть человека; не потому, что она уводит его тень в Елисейские поля, а потому, что она гасит пламя его мысли в безразличном покое Леты!
И Сенека не менее безнадежен, чем Плиний и Лукан, со своим ex nihilo nihil .
«Из ничего – ничто, – говорит он; – все возвращается в пустоту, откуда все вышло. Вы спросите, куда отправляются сотворенные вещи; они отправляются туда же, куда и вещи несотворенные, ubi non nata jacent ».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу