Когда Мажоров вернулся, голодные желудки помогли Хасану и Саньке разыграть бурное возмущение Володькой.
— И банку НЗ открыл он! — разошелся Хасан.
— Съели НЗ? — Да как ты смел? А обратно думаешь идти? Или я буду тебя кормить? Молокосос!
Не выпуская ружья, Мажоров без стеснения, впрочем с подчеркнутой небрежностью обшарил карманы Володьки, отнял фляжку. Мысль направить злость юртинцев против Володьки понравилась Степану, и он не стеснялся.
«Ухватится за Санькино ружье — тресну его по затылку прикладом, — решил про себя Хасан, мысленно примеряясь, куда и как будет удобней ударить. — Втроем-то мы его живо!»
Мажоров взболтнул фляжку.
— Что в ней?
— Смотрите, — буркнул Володька.
Мажоров отвинтил пробку, понюхал: «Вино! Вот-те и молокососы! С настоечкой шарятся!»
— А вот с вином ходить тебе еще рано, — и он прицепил фляжку к своему ремню.
— А ну, копать! — приказал Мажоров и отошел, сел под куст.
Володька, похудевший сильнее всех, уже пошатывался от голода и усталости. Руки, не привыкшие к физической работе, поламывало в суставах. Но на открытый «бунт» и он не решался.
* * *
Вечером, едва начинало темнеть, Мажоров торопливо уходил спать почему-то в кусты, хотя, по его же словам, комары там, как звери. Утром он появлялся чуть свет. Сегодня, несмотря на то, что солнце уже поднялось над лесом, Мажоров не появлялся.
«Отчего бы это? — задумался Володька. — Уж не сбежал ли он, украв берестяное письмо?»
Он разбудил Саньку, кинулся к рюкзаку. Поиски письма прервал явственно доносившийся гул вертолета. Он вылетел из-за кедрача, шел низко, вдоль гряды.
— Санька, стреляй! — зашептал Володька.
— А Степан?
— Оставишь один патрон! Управимся! — поддержал Володьку и Хасан.
Санька побелел, руки его задрожали.
— А где он?
Только сейчас ребята заметили, что Мажоров лежал под кустом метрах в двадцати. Ружье валялось рядом. Володька вырвал у Саньки ружье и выстрелил. Летчик, видимо, и без того заметил людей, стал быстро снижаться. Мажоров не шелохнулся.
Вертолет сел, и из кабины вылез отец Володьки.
Хасан кинулся будить Мажорова: окликнул его, потом заглянул в лицо и понял: Степан мертв. Рядом валялась раскрытая фляжка…
* * *
Бездымными холодными кострами догорало северное лето. Что ни день — все ярче пылали осины, бесконечным хороводом окружившие тайгу. А Зыбун и редкие еще не сожранные им луга напоминали бескрайнюю палитру, на которой вслед за зелеными мешали только блеклые коричневые краски. Ржавели на притаежных озерах стальные пики камышей, осыпались нежные бутоны кувшинок. Только корзинки ядовитого веха да розовые початки водяной гречихи еще скрашивали озерный пейзаж. Не сдавался осени лишь курчавый вереск: кажется, он зеленел пуще прежнего и наперекор осени озорно смеялся лилово-розовыми султанчиками.
…Заплакал от радости Нюролька. Жизнь его напоминала чем-то непокорный осенним сиверам вереск. С семи лет начал он промышлять вместе с отцом. Без промаха бил зверя. А ни юрты доброй, ни достатка в пище не было. Случалось, до нитки обирали стойбище царские чиновники, купцы. Вот почему почти никто из рода карамо, с которым кочевал Нюролька, не доживал до сорока лет. Человеку тайги — обильной и щедрой — всегда грозила голодная смерть. Болеть нельзя — Шаман не накормит, не вылечит. Шаман сам ест за чужой счет. А больной человек не выследит зверя, не принесет мяса. Больной человек может и промахнуться. А промахнуться человеку тайги нельзя.
— Худо будет. Беда, — говорит Жуванжа. — Нельзя ранить медведя, нельзя ранить лося, звереет зверь. И надо беречь припасы — порох, свинец. Нужда учила бить хозяина тайги одной пулей или ножом, учила бить белку в глаз. Нужда учила и уменью добывать зверя и птицу без ружья — силками, плашками, кулёмами. Дешевле! А труд человека тайги — не в счет.
И только одному не учила нужда — радоваться жизни, улыбаться. Вот почему и сейчас, когда глаза Нюрольки смеялись, блестели молодо и весело, лицо оставалось хмурым: морщины щедро изрезавшие его, не перечертишь… Следы былого на лице не сотрешь, а вот сердце, даже самое зачерствелое, изрубцованное, отходит. Добр был Нюролька.
И эта доброта помогла ему понять ребят, с уважением отнестись к их затее.
Не выпорол, вопреки ожиданию, и Жуванжа Саньку. Однако сами ребята были недовольны результатами своего похода. Кто же из Купериных погиб на Зыбуне — полковник или его степенство купец первой гильдии? Ведь от этого зависели окончательная разгадка тайны берестяного письма и выполнение посмертной просьбы Максима Око-старшего.
Читать дальше
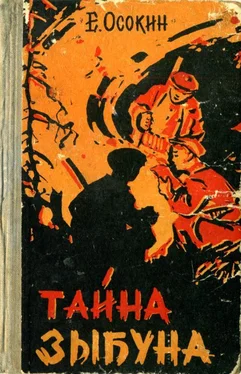







![Евгений Водовозов - Тайна полковника Вебера [Повесть]](/books/415831/evgenij-vodovozov-tajna-polkovnika-vebera-povest-thumb.webp)



