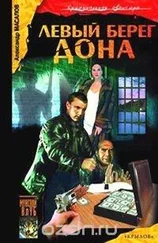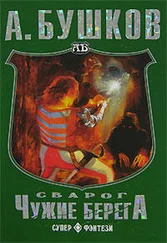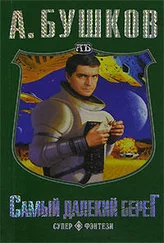В пятидесятых годах отца перевели сюда, в Ишим, главным инженером завода автоприцепов, позднее он стал его директором. В небольшом городке, где каждый десятый являлся заводским рабочим, отец был заметной фигурой - членом горкома партии, бессменным депутатом городского совета. Юрий сберег несколько предвыборных листовок, отпечатанных в типографии заводской многотиражки. Отца называли в них передовым инженером, видным организатором производства. Слово «инженер» нравилось Юрию гораздо больше, чем «директор».
Шпилька Старкова, чего греха таить, попала в цель. Юрий любил иногда лихо подкатить к школьному подъезду на отцовой персональной машине. Шофера ее, немолодого уже человека, он Называл запросто Колей. И все-таки почему Старков сказал «на машине отчима»?
Юрию льстило то, что отец держался с ним на равных. Советовался о семейных денежных делах, никогда не проверял домашних заданий, только регулярно расписывался в его дневнике. Но, увидев четверку, спрашивал как бы невзначай:
- А кто-нибудь в вашем классе получил отлично?
- Ага, две девчонки…
- Они что, способнее тебя?
И Юрий отворачивался, чтобы скрыть зардевшееся от уязвленного самолюбия лицо.
Поддержал его отец и в одном серьезном конфликте, возникшем у Юрия с одноклассниками. Узнал тогда Юрий, что проживал в их городке друг Александра Сергеевича Пушкина ссыльный поэт-декабрист Александр Одоевский. Любой школьник знает наизусть мятежные строки его ответа на послание в Сибирь знаменитого тезки:
Но будь спокоен, бард, цепями,
Своей судьбой гордимся мы.
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Одоевский провел в Ишиме чуть больше года, и об этом периоде его жизни мало что известно. Юрия бросило в жар от мысли, что, может, именно ему суждено расшифровать белое пятно в биографии декабриста.
Юрий потерял покой. В школе сторонился друзей. А вечерами, бродя по истертым булыжникам старинной мостовой, думал о том, что по этим же самым камням ступала нога худощавого, светловолосого человека с умными, но погасшими от лишений глазами.
Втайне ото всех он послал запрос в Тобольский краеведческий музей, располагающий наиболее полными сведениями о ссыльных революционерах. Полученный им ответ содержал всего несколько строк: «Поэт А. Одоевский проживал в доме мещанина Селезнева на улице Благовещенской, ему был отведен земельный надел возле села Жиликовского, который он не успел разработать, потому что был отправлен на Кавказ под пули горцев…»
Справочного бюро в городе не существовало, и Юрию пришлось популярно объяснять начальнику паспортного стола причины своего любопытства. Но все три семьи Селезневых, проживающих в городе, наотрез отказались от родства с каким-то стародавним мещанином. Из осторожности про декабриста Одоевского Юрий в разговоре с ними умалчивал.
Оставалась последняя ниточка - село Жиликовское, или попросту - Жиляки, ставшие уже близким пригородом Ишима. Юрию удалось отыскать там столетнего старца, сохранившего слух и внятную речь. На радостях Юрий не сообразил того, что Одоевский умер по крайней мере за четверть века до рождения жиликовского старожила.
- Чегой-то ты, паря, толкуешь? Какой такой ссыльный барин? - удивленно глянул дед на гостя белесыми, без ресниц глазами.
Юрий стал терпеливо растолковывать ему, кто такие были декабристы, за что так жестоко расправился с ними царь Николай Первый.
- Я-то, паря, при Ляксандре Втором хрещен, - вздохнул старик, - но и при нем ссыльно-поселенцев пригоняли сюда немало. Только больше не из бар, а из стюдентов… И после, при Третьем Ляксандре, и при последнем Миколае они не переводились. Я-тко уже подрослым мальцом был, когда ветрел одного такого государева преступника. Григорием Санычем его звали, а вот фамиль евоную запамятовал. Вить сколько лет с той поры ушло! Ох-хо-хо… Был он, знакомец мой, молодой и безбожник, а бородищу носил прямо тебе архиерейскую. На рыбалке мы с ним сошлися. Я ему все добычливые омута показал на Ишиме, уж больно охоч был он на зорьке с удочкой посидеть Песни играть любил, все боле грустные… Знамо, не с чего было ему веселиться. Одну евоную я и после слыхивал от этапных колодников…
Замученный злою неволе-ею,-
дребезжащим тенорком вдруг затянул старик, -
Ты сме-ертоньку лю-у-ту принял,
В борьбе эа свяпппен-ное дело-о
Головушку честно поклал…
Говаривали, что Григорий Саныч энту песню самолично сложил, - продолжал рассказывать дед. - После, когда прощение ему вышло, он на память мне бергет свой подарил. Часы такие луковицей, серебряные, с музыкой. Отколупнешь ногтем крышку, а оттедова молоточки вызванивают: тинь-тон-тон. Подарок евоный я почти-штось сорок лет берег. А в девятнадцатом годе выказал облыжно, и колчаки его у меня фисковали…
Читать дальше