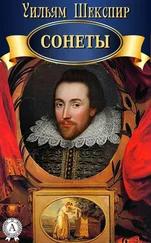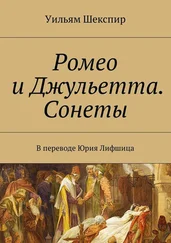Фиалку я бранил за воровство:
«Где ты нашла, плутовка, запах свой,
как не в дыханье друга моего?
А лепестки окрасила весной,
должно быть, кровью пурпурной его?».
Взят майораном блеск твоих волос,
а свежесть кожи — лилией взята.
Тут страшный стыд охватывает роз:
зарделась эта, побелела та.
А третья — ни румяна, ни бледна —
твоё благоухание крадёт.
но за разбой наказана она:
её съедают черви в тот же год.
Цветов немало мой находит взгляд,
и все тебя ограбить норовят.
О Муза, где ты! Что молчишь о том,
кто силу дал тебе? Зачем твой пыл,
ничтожный образ высветив лучом,
пустою речью мощь свою затмил?
Опомнись, Муза! Долгий перерыв
ты искупи изысканным стихом,
воспой того, кто любит твой мотив,
перо твоё исполнив мастерством.
И если вдруг лицо любви моей
приметы Времени избороздят,
убей его сатирою своей,
чтобы над ним глумился стар и млад.
Любовь мою восславив, отберёшь
у Времени косу и острый нож.
О Муза, почему изображать
ты не желаешь правду в красоте,
ведь это и любви моей под стать,
и ты окажешься на высоте?
Ты скажешь, Муза: «Правде не нужна
расцветка, у неё особый цвет;
и красоте без правды грош цена,
и лучшее хорошему во вред».
Но не прощу тебе я немоты!
Моя любовь достойна жить в веках
не в позолоте гробовой плиты,
но в сказанных тобою похвалах.
Урок мой затвердив, запечатлей
бессмертные черты любви моей.
Люблю сильней, хотя на вид остыл,
люблю не меньше, но исподтишка.
Кто всем твердит про свой любовный пыл,
свою любовь пускает с молотка.
Мы упивались чувства новизной,
я песнями встречал любви цветок,
как Филомела, что поёт весной,
а летом прячет дивный свой рожок.
И летней ночью мог бы соловей
тоскою исходить, но звонкий гнёт
отягощает тишину аллей,
а в общем гаме счастье не живёт.
Я больше не пою. Я стал немым,
тебя не муча пением своим.
Хоть Муза бедная моя вольна
найти любой для гордости предмет,
сюжет мой скромный выбрала она,
в котором славословью места нет.
Я не пишу не по своей вине:
твоё подобье в зеркалах твоих,
воображенье притупив во мне,
стыдит меня и мой неловкий стих.
Но с помощью поправок осквернять
верх совершенства разве не грешно?
Тем паче красоту твою и стать
восславить ремесло моё должно.
Но облик твой покажут зеркала
точней, чем стихотворная хвала.
Не постареешь ты, ведь с той поры,
как встретились мы, ты неотразим,
как прежде. Трижды летние шатры
сметала вьюга трёх свирепых зим,
По осени три раза желтизной
вскипали вёсны, трёх Апрелей дух
три раза выгорал в Июньский зной, —
а ты всё свеж, и взор твой не потух.
Но, стрелке уподобясь часовой,
тайком по кругу красота идёт,
а значит, взор обманывают мой
твои черты, меняясь что ни год.
Все, кто родится позже твоего,
поймут, что лето красоты мертво.
Моя любовь не идол, посему
не истукану поклоняюсь я.
Всё об одном и только одному
поётся песнь хвалебная моя.
Любовь моя день ото дня нежней
и мне до изумления верна,
и песнь моя верна любви моей
и без остатка ей посвящена.
«Прекрасен», «нежен», «верен» — мой сюжет;
«прекрасен», «нежен», «верен» — в этом суть;
Три темы здесь, но вариантов нет,
где можно вдохновением блеснуть.
«Прекрасен, нежен, верен» — все в одном
теперь живут, а не особняком.
Когда я в древней хронике прочту
рассказы о прекрасных существах:
о рыцарях, влюблённых в красоту,
и дамах, возвеличенных в стихах,
тогда — по описанью нежных глаз
и губ, и рук, и ног — увижу я,
что мог бы отразить старинный сказ
и красоту такую, как твоя.
В те дни была пророчеством хвала,
тебя провидеть силились сквозь тьму,
но ни прозрения, ни ремесла
на это не хватило никому.
А мы, свидетели твоей весны,
теряем речь, тобой восхищены.
Ни ужас мой, ни вещий дух миров,
что полон грёз о бренных существах,
не ведают, срок действия каков
моей любви, чей неизбежен крах.
Прошло луны затменье — и авгур
хохочет над пророчеством своим;
окрепла власть, в себе смирив сумбур,
и мир среди олив неодолим.
Бессильна смерть — любовь моя в цвету,
отведавшая времени бальзам;
я с ней в стихах бессмертье обрету,
а смерть придёт к безгласным дикарям.
Падут венцы, рассыплется гранит,
а памятник твой в слове устоит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу