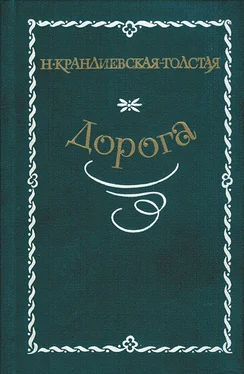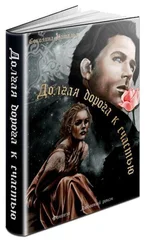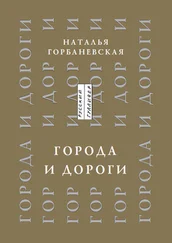Старый цыган трубку курил,
Дымок провожая взглядом.
Казалось, он жизнь до конца изжил, —
Ничего ему больше не надо.
Другой по скрипке водил смычком,
Озаренный светом закатным,
И скрипка о счастье пела, о том,
Что счастье ушло безвозвратно.
А третий под деревом крепко спал,
Раскинув смуглые руки.
Ветер цимбалы на ветках качал,
Срывая со струн их звуки.
Так трижды мне дали цыгане понять,
Что, жизнью, как дымом, играя,
Можно пропеть ее, можно проспать,
Трижды ее презирая.
Долго на них довелось мне глядеть,
На нищих, беспечных и мудрых.
Лиц мне запомнилась жаркая медь,
Буйные, черные кудри.
«Он придет и ко мне, самый страшный час…»
Он придет и ко мне, самый страшный час,
Он, быть может, не так уж и страшен.
Вздрогнет пульс, еле слышно, в последний раз,
И заглохнет, навеки погашен.
Что ж! Представить могу, что не буду дышать,
Грудь прикрыв ледяными руками.
Что придут изголовье мое украшать
Обреченными тленью цветами.
И что «Вечную память», в который уж раз,
Возгласит панихидное пенье,
Что оно сыновьям утешенья не даст, —
Да и надо ли им утешенье?
Но понять не могу, не могу, не могу,
Как — незрим, невесом, бестелесен —
Он остынет со мной на могильном снегу,
Тайный жар вдохновений и песен!
«Видно, было предназначено…»
Видно, было предназначено
Так, что снова довелось,
Пока сердце не растрачено,
Охмелеть от диких роз,
Охмелеть от свиста птичьего
Да от запаха сосны
Возле домика лесничего,
Над излучиной Двины.
12 июня 1954. Хутор Адамово
«Запах вьюнчиков миндальный…»
Запах вьюнчиков миндальный
Мне напомнил дальний, дальний
Полдень, знойный и хрустальный,
Полдень русских деревень.
Цепи рюмочек склоненных,
То лиловым окаймленных,
То румянцем озаренных,
Завивали мой плетень.
Цепи милого соседства!
Вас оставило в наследство
Мне бесхитростное детство, —
Вас храню до этих дней.
Но не в сердце, не в сознанье,
Даже не в воспоминанье, —
Я храню вас… в обонянье.
Это — дольше и верней!
Взревел гудок, как символ дальних странствий,
Взмахнул платок, как символ всех разлук.
И сон в закономерном постоянстве
Видений разворачивает круг.
На палубе большого парохода
Себя я вижу. Предо мною — мир,
И за кормой — не океана воды,
А в синеве струящийся эфир.
Рука бесплотная, предохраняя,
На плечи мне легла. Да, это он,
Астральный друг, которого ждала я,
Тоскуя с незапамятных времен!
Как символ человеческих объятий,
Его прикосновенье за спиной.
И в радугу вплывает он со мной,
Как в гавань света, в лоно благодати.
Утихла буря и опал
Твоих страстей девятый вал.
Мертвеет зыбь и виден в плаванье
Уже последний берег гавани,
Земного странствия причал.
Зачем же ты назад глядишь?
Как будто эта гладь и тишь
Тебе страшней, чем стоны бури?
Ты кличешь ветер, ты зовешь
Безумство волн, ты шторма ждешь
И туч на мертвенной лазури.
«На грани смешного, на грани чудачества…»
На грани смешного, на грани чудачества
Порой сокровеннейших помыслов качества!
Все в жизни как будто налажено, сглажено,
Но вот за предел приоткроется скважина,
И нечисть ворвется, гуляет по комнате…
Ведь с каждым так было, —
признайтесь, припомните!
«Не только к юным муза благосклонна…»
Не только к юным муза благосклонна,
И к старикам она благоволит,
Об этом нам былое говорит.
Старик Гомер, не ею ль вдохновленный,
Гекзаметры бессмертные слагал?
И в час, когда старинный Веймар спал,
Не ей ли Гете в тишине внимал,
Над рукописью Фауста склоненный?
Иные дни, иные времена.
Но ни на миг не прервана она,
Поэзии живая эстафета!
У стариков традиция сильна, —
Рокочут соловьи седого Фета,
И пусть порой, по прихоти поэта,
Чужая, Оссианова луна
В отеческих прудах отражена, —
Романтикам простительно и это!
Читать дальше