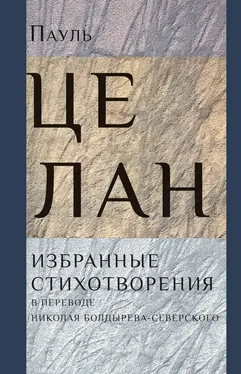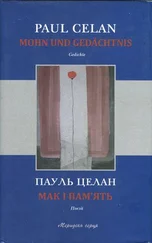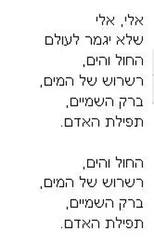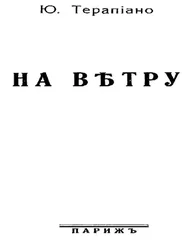Целан из совсем другого замеса, он общается с миром неоскорбляемой «пустотностью» сердца. И все же оскорбление германским нацизмом было нанесено ему столь сильное, что в этом борении он почти изнемог. Чувствовать обиду для поэта смертельно, ибо она привязывает его ко времени – тленному, затхлому, самораспадающемуся.
Есть наблюдатели времени как почти чувственно вкушаемой данности, а есть наблюдатели вневременного во временном. Первые – литераторы, вторые – поэты. Литератор может быть и гениален, поэт может быть и малоталантлив. Но это не отменяет качественной разницы между ними. В противовес модному предрассудку обожествлять всякий талант. Высокоталантливых литераторов пруд пруди. Поэты крайне редки, особенно в разгар кали-юги. Талантливость ныне пышно приветствуема, разогрета, подпитываема всеми видами удобрений, биодобавок и эстетических инъекций, мультимедийным информационным натиском. Талант ныне во многом есть следствие той рацио-животной раскованности, которая в свое время породила, например, Наполеона, а в нашем недавнем прошлом Ельцина. Однажды нашу югу зашкалит от повальной талантливости: эго схлестнутся в перманентной зоосхватке за подиум и пьедестал.
4
Поэт движется к тому, что Кришнамурти называл озарениями, вспышками внеинтеллектуального знания, квантовыми касаниями чистого источника. Отчасти в этом направлении шел «поворот» Целана. Разумеется, сущность человека свободна от хронологического времени, однако обычный человек жертвует своей сущностью, становясь рабом хроноса (социума). Внутреннее нехронологическое время есть опыт экзистенции, опыт наблюдения за собственной душой, которая, хотим мы того или нет, укоренена в невербальных смыслах почвы, пепла и звездного мрака.
Поэт иррационален не вследствие желания поражать. Он мыслит не мыслью и не интеллектом, не набором (перебором) информационных файлов, не эффектами соединения несоединимого, не игрой в метафорические симбиозы и парадоксы. Всё это было бы шутовской пляской, цирком, снобистской подделкой. Поэт постигает нечто целостно, тем органом, которому нет названия; поэт, собственно, и есть этот орган. Он слушает саму мембрану, сам источник вулканического тепла того метаопыта, в который мы погружены. Это напоминает интуицию той «чистой связи», которую реализовывал Рильке, за тайной Розы и Ока которого Целан продолжал идти.
5
Целан несомненно отчасти стоит на плечах Рильке. Объем пересечений впечатляет. Нередко он прямо вторит Дуинскому мистагогу, например, знаменитому его признанию (уже позднего периода), что сущностью своего поэтического дела он считает вслушивание и послушание (Hoeren und Gehorchen). В черновиках к Бюхнеровской речи Целана мы находим (вне какой-либо ссылки на Рильке) абсолютно идентичную формулу: «Поэзия – не словесное искусство ; она – вслушивание и послушание». Слушание чего? Вслушивание во что? У Рильке – в пение не только вещей (а точнее говоря – в то «сердце дали», что «внутри вещей живет»), но Большого сердца, в пение Сердцевины универсума. Это слушание и вслушивание есть форма установления «чистой связи» между сердцами. Хотя слово «сердце» уже и называть неприлично.
А что есть послушание? Кроткое следование смыслу и сути принимаемой вести, которая доверительно-дхармична. Никакого произвола. Любой эгопроизвол, идущий всегда из интеллектуальных матриц, будет формой дезертирства; то есть формой импотенции. Гипноз цивилизационной чары должен быть снят. Рильке учуял исходную волну деградации, случившейся с человечеством около пяти тысяч лет тому назад. Целан подключился к его открытию; такая форма согласия поражает прежде всего потому, что обычно поэты стремятся отталкиваться друг от друга, ибо пестуют свою «непохожесть». Целан нашел в Рильке «соратника» в главном: в понимании губительности европейского эгопроекта, из которого автоматически натекает демонического толка эстетизм. Отрицание европейского культа эгокрасоты – вот платформа для тайного братства, для тайного монашества. Этот поворот Целана трудно было не заметить. «С конца пятидесятых годов, – писал Тео Бук, – Целан сознательно отказался от какого-либо словесного “музицирования”. Поэтому он последовательно и по нарастающей изгонял из своей поэтической работы такие формообразующие элементы как языковая магия, богатство образности, фонетические обольщения. В 1958 г. он выдвинул программное требование “серого, подзолистого” языка, который “не доверяет красоте” и хочет видеть языковую “музыкальность” переселенной в совсем другое место, где она уже не имеет ни чего общего с тем “благозвучием”, которое всё еще более или менее беспечно подпевает ужасному»… Вся культура, мало изменившись после русского холокоста двадцатых годов и еврейского холокоста сороковых, продолжала подпевать ужасному, продолжала воспевать силу и победительность эго, которое по своей корневой сути есть фашист, рядящийся в одежды лирического паиньки.
Читать дальше