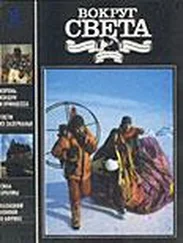Жена.Разве там песок?.. И вдруг услышала над собой: «Не помешал?» Я открыла глаза… у меня под сердцем как какая-то куриная косточка переломилась, щелк — и все. «Не помешали», — только и сказала я. Но в этих словах уже была вся моя дальнейшая жизнь.
Девушка.Жалко, лето уходит…
Попутчвк.Лето не люблю. Все уезжают. Город пустеет. Скучно.
Девушка.А вы тоже махните — в поле, в лес, на речку.
Попутчик.По мне этой природы хоть бы и не было.
Девушка.Как вы такое говорите!
Попутчик.Да, я отчаянный урод. Так меня воспитали. Я никогда не влезал на дерево, не кявыся до посинения, не обгорал до волдырей, ни разу не выстрелил из рогатки чугунным осколком батареи… Я верил всем родительским установкам: «Не пей сырой воды» — я не пью, «не бегай босиком по лужам», — я не бегаю, «не верь ребятам, которые рассказывают про взрослых разные гадости», — я и не верил… А ребята, которые пили сырую воду, бегали по лужам босиком, рассказывая про родителей, чем они занимайся по ночам, — говорили правду. Все половые премудрости они прошли еще в школе. А я застрял. Разница полов до сих пор мучает меня, как школьника. Раньше, в детстве, я смотрел на двух интеллигентных людей и думал: ну, эти-то всем, о чем рассказывают ребята, не занимаются. Этим занимаются хулиганы, а культурные люди — никогда! О, зачем я слушал родителей и не слушал ребят!.. И по деревьям надо было лазить, и птичку из рогатки убить, и воду сырую… Может быть, тогда я заболел бы дизентерией и не дожил бы до сегодняшнего дня.
Девушка.У меня сестра умерла от дизентерии…
Попутчик.Она была похожа на вас?
Девушка.Не знаю. Она так и не выросла.
Таксист.Зачем вы на родителей нападаете? Чего мертвецов обвинять?..
Попутчик.Они живы.
Таксист.Все равно.
Попутчик.До пятидесяти одного года они меня довели.
Девушка.Вам никогда не дашь ваших лет.
Попутчик.А мне их и нет. Каждый человек останавливается в каком-то возрасте и пребывает в нем всю жизнь. Лично я остановился в двенадцать.
Пауза.
Пассажир.В двенадцать лет мне приснился странный сон. В тот день, когда мы с мамой вернулись из деревни, где каждый год отдыхали у маминого брата. Поезд там стоял две минуты, за это время надо было уговорить проводника, чтобы он нас пустил, потому что билетов на этой станции не было никогда. Называлось Зерново. Ехали мы с мамой обычно на одной полке. Я как ребенок, потому что в свои двенадцать я выглядел на семь… И вот после жуткой посадки и бессонной ночи мы приезжаем на Киевский вокзал, и мама от полного истощения берет такси. Большую такую машину, кажется, ЗИМ называлась… Таких уже не выпускали. Видно, старик шофер где-то на свалке ее откопал, отремонтировал до блеска и на ней халтурил. В машине мне стало плохо. На высоких бархатных сиденьях мягко качало, мотор работал почти бесшумно — мы не ехали, а плыли. Меня и укачало. Закружилась голова, поташнивало. Я еле доехал. И как только вошел в дом, плюхнулся на диван и заснул каменным сном. И снится мне, что я еду в автомобиле, но не в таком, в котором ехал только что, а в каком-то невероятном, каких не бывает. Салон большой, как комната, все пассажиры, взрослые люди, сидят на стульях. Но это — машина, такси. Мы едем, разговариваем, смеемся… И я, уже взрослый, сижу там с ними. Водителя нет, машина едет сама по себе. А по бокам машины, вот как она едет, стоят люди — близко к стеклам, очень близко. Мы, собственно, продираемся сквозь плотную толпу. Но притом едем с большой скоростью, мотор ревет, как в самолете. И вдруг я вижу, прямо перед машиной стоит мама. Беременная. Большой живот. Причем я понимаю, что это я, что мама беременна мной. Я кричу, чтобы затормозили, остановили. Но крика не получается. Да и если бы меня услышали… у машины нет ни руля, ни тормозов, ничего… Мама очень спокойно и внимательно смотрит через стекло на меня. И вот мама близко, близко… Я вижу мелкие цветочки на ситце, обтягивающем ее живот… Вдруг что-то происходит, какая-то мгновенная и легкая перемена. То есть все остается по-прежнему, но эти меленькие синенькие цветочки я теперь вижу изнутри. Ситец прорывается, — и я слепну от хлынувшего на меня света. Это мама зажгла лампу около дивана, где я спал. На улице уже наступил вечер, духота, майка прилипла к телу… На маме был тот самый синий сарафан. «Ты смеялся во сне», — сказала она, и я заплакал. Мне было двенадцать лет.
Читать дальше