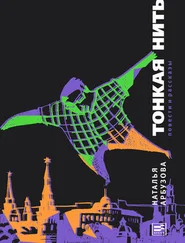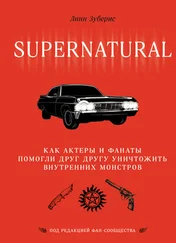Наталья Арбузова - Мы все актеры
Здесь есть возможность читать онлайн «Наталья Арбузова - Мы все актеры» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Драматургия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Мы все актеры
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Мы все актеры: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Мы все актеры»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Мы все актеры — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Мы все актеры», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
В тихой химчистке остановились часы. Верочка тотчас включила радио. Время посмеялось ее наивности и обратило свое циферблатное лицо к шестидесятым годам. К Верочке в общежитие МАИ приехала из Калуги мать посмотреть, как устроилась. Привезла перелицованное перешитое зимнее пальто, внушительное – ну просто гоголевская шинель. Полюбовались, повесили на гвоздь, пошли смотреть Москву. Вот им Москву и показали. Сравненье с шинелью было не к добру. Подруги приходили, уходили, оставили открытым окно. Вор долго бросал в него рябину, потом залез и увёл Пальто. Мать с Верочкой вернулись в грозу под сломанным зонтом с праздно торчащими спицами. Ветер выгибал его наизнанку, меняя ориентацию репера. Ввалились, мокрые. Видавшая виды, как будто бы закаленная жизнью мать тут ни с того ни с сего дрогнула. Повалилась ничком на аккуратно заправленную Верочкину койку, заломив худые руки, с криком «последнее, последнее». Верочка скакала на одной ноге, вытирая казенным полотенцем длинные волосы и приговаривая: «Фуй, мама… как тебе не ай-яй-яй… побереги слёзы… нечем станет плакать… будут еще беды…» Девица вещая, она оказалась права. Господь наслал такие утраты, что и плакать было неуместно, а лишь думать о гневе Его. Но пока гроза миновалась, солнце село не в тучу. Мать с Верочкой спят валетом на узкой постели, старшая на подушке, младшая на скатанном свитере. Обеим снится Ока, песчаные обрывы и потемневший от дождей двухэтажный деревянный дом.
Юлька, голоногая и голопузая, прямо из Строгина, не заходя домой, едет на одну из своих тусовок. Их у нее штук пять – есть и крутые, и всмятку. Соскочив с двадцать восьмого трамвая, ныряет в метро Щукинская. Как эскалатор услужливо тянет людей ей навстречу! Юлька играет, будто у нее на плече кинокамера. Нету, а хочется. Ага, парень попал в кадр. Вести, вести, не упускать. Заметил взгляд, помахал рукой. Уже сверху обернулся, бросил к ней, тоже оглянувшейся, банку от пепси. Банка проскакала мимо и брякнула – привет! Сойдя с эскалатора, Юлька пошарила в пакете. Купальник тут, а мобильника нет. Только купила, заработала – возила на море группу детей. Вот так, побаловались.
Часы в химчистке пошли, но не в ту сторону. Опять какой-то шестьдесят затертый год. Верочка стоит на эскалаторе в блузке, сшитой из белого школьного фартука. Та немного съехала набок, образовав в костюме своей хозяйки трудно извиняемый беспорядок. Верочкой владеет устойчивое заблужденье, что лишь она смотрит на окружающих, а на нее никто не глядит. Комплекс невидимки. Будто экран поставлен меж нею и людьми, проницаемый лишь в одну сторону. Жадно разглядывает едущих навстречу, воображаясь режиссером. Ищет актера на роль. Вон, вон. Нет, тот, высокий. А кудрявый будет дублером. Уже садясь в вагон, замечает – ей разрезали бритвой сумку. Взяли кошелек, в котором один проездной. Всё равно жалко, месяц едва начался.
Старенькая Верочка идет с работы домой. Ей кажется – она летит подобно горнолыжнику, разгрузившему пятки в передней стойке, вся сместившись к цели. Но, поймав на миг боковым зреньем свое отраженье в витрине химчистки, составляет несколько иное представленье о своем четырехмерном облике. Оказывается – сгорбилась, вытянула по курсу движенья длинную шею. Плохо заколотые волосики торчат смешными рожками. И вообще ползет как улитка. А Юлька, рано пришедшая на квартиру Таси Монаховой, мерит перед зеркалом классный прикид. Ловит на плече радужного зайчика. Спрашивает – как? Слышит в ответ чистую правду: ты на свете всех милее, всех румяней и белее. Победно хлопает себя по сильному брюшному прессу. Верочка засыпает, объятая сумерками, убаюканная шумом тополей. Юлька уж позвонила – домой не будет, уезжает на Истру с тремя ночевками.
На Истре дым коромыслом. Проснулись поздно. В багажнике заранее заготовленный фарш, тесто для мантов и две мантышницы с дырками. Надо только лепить. Лепят, шумят, нажгли жарких углей от больших бревен. Вода давно уж кипит, и скоро долгожданные манты – первый блин комом – опрокидываются наземь. Их едят, нацепив на прутики, сплевывая еловую хвою. Перезваниваются по мобильным, ездят в деревню встречать прибывающих, заодно – в магазин. Собрали большой катамаран с парусом, и самая шустрая четверка, заняв места на раме, отчалила от берега. Кто-то шпарит вдогонку на серфере. Северный ветер рябит темную от солнца воду. Снова падает вечер, все тусовки колобродят возле своих костров, не замечая друг друга. Стоит сплошной тяжелый рок, с ведрами вместо ударных. В Москве жара долго не спадает. Верочке снится, как она, в возрасте уже за тридцать, идет на водных лыжах. Развернулась, и по своей волне, как по стиральной доске: др-др-др. Душа в легких снах отдыхает от пережитых страданий и радуется – так, должно быть, в камере пыток человек радуется обеденному перерыву палача. Утром привыкшая бить тревогу мысль вскидывается: что там, в этих тусовках? Вон – она, дурно хранимое сокровище, уж заявляет непререкаемым тоном, что анаша продукт натуральный, и вреда от нее быть не может. Верочка робко возражает – и белена натуральный; тут грань очень и очень размыта, лучше к краю не подходить. Дитя молчит, таит свои упрямые резоны: какого тогда лешего все эти стертые до полного безличия люди учили нас в школе – есть упоение в бою и бездны мрачной на краю?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Мы все актеры»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Мы все актеры» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Мы все актеры» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.