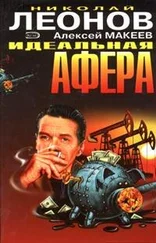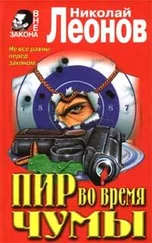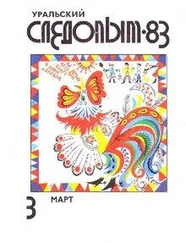Вокруг одобрительно гоготнули.
– И горячая вода? – уточнил Кеша.
– Как в лучших домах Парижа… Семья-то у тебя большая?
Враз стало слышно, как сочится из-за бетонных колонн сипловатое шипение газосварки.
– Какая семья?.. – потерянно отозвался Кочелабов. Один я.
Безуглов присвистнул и посмотрел сверху вниз так, словно Кеша уменьшился вдвое.
– Ну и что?.. Ну и что, что один?.. Значит, не человек?!
– Кхе, полчеловека, – сострил Безуглов. Никто не засмеялся на этот раз, только круг стал потесней.
– А очередь?.. Четыре года стоял и псу под хвост очередь, да?
– Погоди. браток, – посунулся вздернутым плечом Лясота. Погоди, говорю, слышь?.. Выходит, когда вкалывать надо, то все мы человеки. А как жилье получать – половинки?.. Ты спроси меня, как он работает – Кочелабов, скажу: в любой работе безотказен. Пойди-ка посчитай, много ли у нас таких, кто по четвертому году в одной бригаде работает?..
– Юридически не имеете права, – вступился Геныч. Если мне память не изменяет…
В этом гаме лишь один человек оставался невозмутим. Он стоял, сунув руки в карманы серенькой болоньи, и с интересом поглядывал по сторонам. Напрасно кое-кто думал, что профоргу нечего сказать. Дождавшись, когда голоса поутихли, Безуглов по-школярски поднял руку, прося слова.
Спокойно, как отвечают хорошо выученный урок, он объяснил, что есть в той очереди всякие люди: и семейные с детьми, и молодожены, живущие врозь. Так кому профсоюз должен отдать предпочтение – им или холостому парню?.. Вот если бы, скажем, была у Кочелабова невеста – другое дело. В порядке исключения, случалось, откладывали ордерочек до свадьбы.
Молчавший доселе Влас подал голос:
– Чуешь, Кеша, невесту треба.
– Да ну! – что-то сломалось в Кочелабове: не рвался он больше ни доказывать, ни расспрашивать ни о чем, будто разом смирился с неизбежным. Только в сузившихся глазах шла отстраненная от всех, ему одному ведомая работа.
– А чего ты?.. Или не мужик? – весело поддержал Власа Безуглов. – Доведись мне сейчас – да в два счета… столько девок вокруг.
– Да, в такую квартиру небось и Ковязину дочку можно сагитировать, – рассудил Тучков, даже не улыбнувшись своей остроте.
Самый старший в бригаде, лысоватый, неохватный в поясе Ковязин давно уже жил бобылем, но о дочке своей, работавшей счетоводом в Благовещенске, заботился постоянно и более всего переживал, что заневестилась кровиночка.
– Вот когда у тебя такая дочка вырастет, тогда поговорим, – огрызнулся Ковязин, отыскивая колючим взглядом Тучкова. Но тот уже потерял интерес к беседе. О чем-то бригадиру на ухо зашептал.
– Не слушай ты их, жеребцов, Кеша, – грустно сказала Шурка и пошла крутить свои проволочки.
Прескверное настроение было у Кочелабова, когда шел он утром на стройку в обкорнанной телогрейке: снизу дует, сзади пола так топорщится, что впору пощупать – не хвост ли вырос. Мнилось Кеше, что каждый встречный оглядывается ему вслед и ухмыляется, змей, словно в исподнем увидел Кочелабова. Шел и настраивал себя: «А-а, плевать! Не на концерт иду, на черную работу, пусть что хотят, то и болтают. Плевать!» А на душе поскребывали кошки. И никакого бодрячка не получилось, когда явился в бригаду. Впрочем, и посмеялись над ним немного, и посочувствовали вполне. Но день все равно казался безнадежно испорченным. Все застила собой проклятая телогрейка, весь свет.
Много ли времени прошло с той поры – три, четыре часа? А уж вовсе забыл Кочелабов, во что одет. Вот как повернулось все вдруг. И обалдеть успел от радости, и снова в тоску-кручинушку кинуло его, летел он туда, летел – дна не видать, и с тех глубин утренние неприятности были едва различимы. Телогрейку при случае и поменять можно, умаслив кладовщицу. А вот общежитскую койку на квартиру с удобствами – попробуй-ка поменяй!.. Представить только – вдруг оказаться в своей, отгороженной от всего белого света комнате. Приди хоть в ночь, хоть в полночь – не покосится на тебя вахтерша, не матюкнется со сна разбуженный сосед, а поутру дежурные с санпроверкой не постучат, чтоб пальцам пошарить за тумбочкой – нет ли пыли на радиаторе…
Отчетливо вообразил Кочелабов, как встает спозаранку в своей отдельной, с видом на Амур, потягиваясь, идет к окну, а из-за пепельно-сизых, исполосованных туманами сопок выпячивается солнце. Выкатывается огненным колесом, бликуя в юрких змейках проток, в полноводной, неоглядной стремнине, от одного взгляда на которую обмирает и просится куда-то душа.
Читать дальше