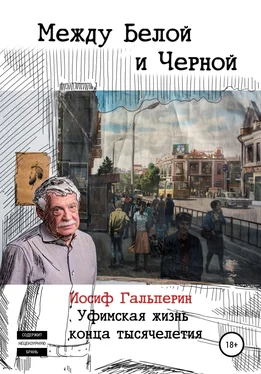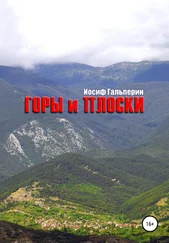Это были следы внимательного номенклатурного чтения, красным простые читатели нам не отмечали ошибки. Читал мою статью секретарь обкома партии (КПСС, конечно, других партий не было) по идеологии. Секретаря звали Тагир Исмагилович Ахунзянов, он был фронтовик, неплохо относился к моему отцу и поэтому в свое время, несмотря на недобрый шлейф, тянувшийся за мной из Москвы, разрешил принять меня на работу в республиканскую газету. В тот праздничный день он орал на новичка-редактора и велел гнать меня из профессии напрочь.
Не понравилось именно пристрастие, личный взгляд на общезначимые события. Кроме того, в день, празднуемый государством, я вспомнил об ошибках и трагедиях. Кто разрешил?! Но сразу меня почему-то не уволили, а наш замглавного, молодой Дима Ефремов послал полосу Василию Пескову – авторитетному автору репортажей и книг о первых космонавтов. Тот спокойно ответил, что данный материал, конечно, своеобразно раскрывает тему, но имеет право на жизнь. А через пару месяцев на всесоюзном совещании работников печати Василий Михайлович Песков с цековской трибуны рассказал, что вот так, как в Уфе, не нужно партии руководить газетой, что журналистам стоит дать немного свободы. Ахунзянов в кулуарах уверял Пескова, что его неправильно поняли.
А я окончательно перестал бояться потерять работу. Если будет из-за чего, если удастся сказать понятую мною и важную многим вещь – не жалко. Не пропаду. Я же видел людей, идущих на гораздо больший, смертельный риск. Идущих осознанно, а не под наркозом эмоций, навстречу тому, что принять нельзя. При этом без примеси фанатизма, позволяющего презирать смерть, поскольку (например, случай джихада) обещан способ ее превзойти.
Человек есть то, чего он боится. Может быть, моя переделка старой формулы кому-то понравится меньше, чем более наглядная и первородная «…то, что он ест», а я принимаю придуманную свою фразу, как рабочую гипотезу. Система табу – это культура, система личных страхов – личность. Совесть. Вера? По крайней мере, одна из осей координат. Недаром мировые религии стоят на обещании бессмертия, а заповеди начинаются с «не». Воспитание негативным примером: возжелал – будешь наказан.
Кроме того, есть и вторая сторона, о ней я даже стихи не так давно написал: «Я – наследник своих врагов». Адаптируешься к тому, с чем борешься, на тебя переходят, как в тесной схватке – чужой пот, чужие приемы, отношение к действительности. Стараешься на себя посмотреть глазами противника. В любом случае, начинаешь понимать другого. Подсознательный импринтинг. То, чего боишься, становится частью тебя, а поскольку боишься разного – и материального, и мифического, и вообще иллюзорного, то вся эту сумму страхов и можно считать внешним выражением себя. Ведь даже за свои положительные идеалы ты боишься: вдруг они смешны кому-то, неправильны по сути, делают тебя уязвимее, мельче.
В конце-концов, ничего страшного – страхи-то не обязательно заставляют делать подлости или предавать идеалы. Иногда – наоборот, в зависимости от того, чего боишься. От того, какой ты.
2.
Вот я, например, труслив – боюсь драк. Удара. Хотя боли, в общем-то, сильной не испытываю, как-то даже убежал от милиционера по трибунам стадиона «Строитель», где зайцем смотрел мотогонки, а потом выяснилось, что бежал со сломанной пяткой – неловко прыгнул с трибуны. Но вот драться – даже в детстве, даже не до крови – практически не доводилось. По крайней мере, по собственной инициативе, да и били-то меня за всю жизнь раза два.
Помню свою идиотскую реплику: «Не надо снега! У меня гландов нет!», это мальчишки повалили меня, неуклюжего второклассника, и пытались накормить хрустящим снежком. Дело было вскоре после удаления миндалин, и мама со слов врачей строго запрещала мне простужаться. Я позорно плакал, идя домой. А мальчишек отогнали тяжелыми портфелями и мешками с тапочками девчонки из класса – так я с ними и подружился.
Собственно, сама операция – еще в Оренбурге – меня поразила первым отрывом от дома. В больнице, в детском отделении, в центре внимания оказалась взрослая почти девочка, рассказывавшая о своей любви к некоему форштадтскому, это такой казачий район в городе, бандиту. Сначала я слушал с недоверием, но потом, когда ее пришел навестить после операции сумрачный парень и она потянулась к нему, как деревце под ветром, я почувствовал незнакомую правоту. И восприятие моей операции было как бы сглажено этой девочкой, сначала преувеличенно на публику (репетировала встречу с любимым?) страдавшей, а потом забывшей о боли, как о поводе, который привел к ней сочувствующего.
Читать дальше