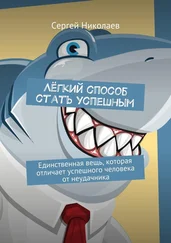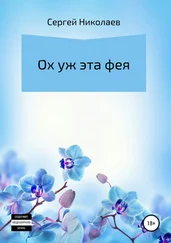ВОДЫ ТЕКУТ
(ЗАРЕВО)
Пьеса в четырех действиях, восьми картинах
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Ш а р п а т — бедный крестьянин, бурлак, 50 лет.
А к т а н а й — его сын, рабочий, 25 лет.
О л я н а — его дочь, 19 лет.
О к а ш е в Т о й м е т — крестьянин, середняк, 65 лет.
С а с к а в и й — его дочь, 19 лет.
О к а ш е в Н и к о л а й — его сын, учитель, 30 лет.
А н д р е й Б у р о в — студент, агитатор из города.
Ч о р а й — староста, 50 лет.
Ч о р а е в С е м е н — его сын, приказчик лесопромышленника Шовакина, 25 лет.
Т о р а е в И в а н — учитель, 28 лет.
З а й ц е в А л е к с е й — бурлак, друг Актаная, 26 лет.
М и к а й — пастух, 18 лет.
Э п а н а й }
А х м е т } бурлаки.
Ш о в а к и н С а в е л и й С о з о н о в и ч — лесопромышленник, 60 лет.
С у т у л о в — земский начальник.
К а п р а л о в — урядник, потом становой пристав.
С о л д а т — раненый, с фронта.
Б у р л а к и, с т р а ж н и к и, ж е н щ и н ы, д е в у ш к и.
Действие происходит в 1905 году на реке Кокшаге среди волжских мари.
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Берег Большой Кокшаги. Вдали гребень леса. По реке плывут плоты. На берегу работают б у р л а к и: перетаскивают бревна, толкают их баграми, вяжут… На другом берегу видна церковь. Доносится колокольный звон. Бурлаки поют:
Раздается песня,
В полдень раздается…
«Это песня матери», —
Так подумал я.
Вслушался — и понял:
То кукушки плач.
С колокольным звоном
Ветер пролетает…
«Звон хорошей вести», —
Так подумал я.
Вслушался — и понял:
То недобрый звон…
Входит Ш а р п а т с багром в руках. Присаживается на бревно. Закуривает. Слушает песню и подтягивает:
С колокольным звоном
Наш проходит праздник…
«Звон привольной жизни», —
Так подумал я.
Вслушался — и понял:
Горькой вести звон… [1] Перевод песен С. Поделкова.
Ш а р п а т. Эхма!.. Невеселые поют у нас песни! Только и слышно, что доля тяжкая да вести горькие…
А л е к с е й (входит при этих словах) . Оттого и вести горькие, что доля тяжкая…
Ш а р п а т. Что же, так оно всегда и будет? Неужто не дождемся добрых вестей? Неужто так нам и пропадать?
А л е к с е й. Да ведь кто знает? Ежели на бурлаков посмотреть, — похоже, что конец нашей жизни… А послушаешь кое-кого, — начинаешь думать: авось и наша доля не в Кокшаге потонула…
Ш а р п а т. Кого же это послушаешь?
А л е к с е й. А хотя бы сына твоего, Актаная… Или, скажем, Николая Тойметовича, учителя. Слыхал небось, что они говорят? Требовать надо, чтобы платили больше, чтобы жилы из нас не выматывали, чтобы за людей, а не за быдло считали…
Ш а р п а т. Требовать все можно! А вот добьемся ли чего?
А л е к с е й. А это смотря по тому, как требовать. Конечно, если в ножки Шовакину кланяться да милости просить, ничего не добьемся. А вот ежели в одно распрекрасное утро работу бросить…
Ш а р п а т. Забастовать?
А л е к с е й. И очень просто! Капут! Стоп, машина! Бревнышки на берегу валяются, плоты на приколе, а бурлаки дома… Вот тогда, может быть, Шовакин станет добрее…
Ш а р п а т. Это ты правильно говоришь, Алексей. Вот слышал я, что у Шовакина в нынешнем году доходу вдвое больше против прошлогоднего, а нам он не то чтобы прибавить — уменьшить плату норовит. Если подбить бурлаков, так они все, как один, работу побросают, — и не только на Большой Кокшаге, и волжские нас поддержат.
А л е к с е й. Это другой разговор. Выходит, дядя Шарпат, что наша доля в наших руках. Не она нам хозяйка, а мы ей хозяева! Еще б вот старосту Чорая сменить к чертовой бабушке… Выбрать кого-нибудь из наших.
Ш а р п а т (возбужден, с подъемом) . Ясное дело — сменить. Приедет Актанай, посоветуемся, как да что…
А л е к с е й. А он где? Опять уехал в Казань? Работу, что ли, искать?
Ш а р п а т. Да нет, какая уж там работа. Его сейчас, поди, никуда и не примут… Хорошо, хоть от тюрьмы отбоярился…
Читать дальше