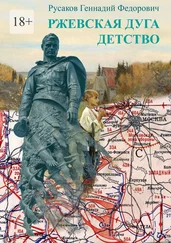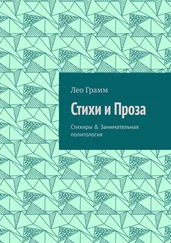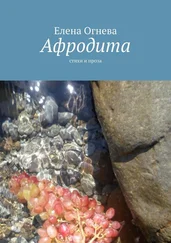Смеется Иван Андреич, тонет в себе и смеется, а во взгляде его – искры перемен и шандарохот трамвая.
Опасен Иван Андреич, опасен, но не для – ага, вот он! – Михаила Иваныча, не для Михаила Иваныча Блюмкина, умеющего в рожу дать, если что. Если что, если что, если что! Не пропустит он и не упустит, если надо, он с лестницы спустит под трамвай, под колеса, под нож, он такой, вот такой, да, похож. А в ухо?! Нет у Михал-Иваныча вопросов, зато ответы – есть, и будущее выворачивает челюстями-крылами площадей из-за поворота, камнями и фундаментами выворачивает, а не эфемерностью искр! Потряхивает Михал-Иваныча радостно на остановках, да и сам он помогает себе, подпрыгивая, не ведает безделья тело его.
Работник культуры, хранитель и имитатор, причастный служенья, чему – неведомо, Андрей Михалыч Иевлев! Куда ж и тебя несет в трамвае октябрьским днем в гоп-кампании с незнакомцами под шум или музыку времени? Гражданин своего «я», кто ты? и что шевелится в груди, на что обопрешься при случае? Почему злостью живешь только, когда жив вообще, зато чистой? За что не любишь всех, кто говорит «в наше время» или «на дворе XXI век»? Где найдешь источник для метафизической своей ярости и к чему применишь ее? Зачем в доме повешенного – любитель о веревке поговорить? Кому шепчешь невзначай «вперед, вперед! дальше, дальше!», и куда уж дальше?
Посверкивает и поблескивает дамская сумочка, придерживает себя рукою с кольцом обручальным на пальце безымянном, нащупывает в своем желудке кошелек с деньгами невротически. «Ах-ха-ха-ха-ха!» – рассыпается детским смехом мобильный в сумочке, щелкает рука с кольцом и пальчиками наманикюренными, щелкает на застежке, раскрываются тайны анатомические и в кокошнике розовом извлекается источник звука сребристый.
Фейерверками выводов сыплет телефон, ни мига без пушечной пальбы медицинских рекомендаций, как будто вечный полдень стоит над Петропавловской. На неплохом английском языке рекомендации.
Бьется резинка на дверях-баяне, подрагивает, недооторванная, недоотставшая, ночным мотыльком вьется, оторвись же уже, пади в грязь промышленную и успокойся.
*
Отставляет ножку, крутится на сиденьи автомобиля выжига – среброшерстая кошка. Треплет кошку по пузу пассажирка автомобиля, номерной знак «Лёля 666». Кошка – Мадонна. За рулем – муж. Слева – трамвай. Перед лобовым стеклом – перекресток, светофор, красный.
Здорово живешь, Петруха, семь целей перед собой имея – не хухры-мухры. Знаешь, куда напор свой сбрасывать, откуда деньги на следующий вираж брать, а ведь деньги – деньги! Вираж!
Ты ли единственный, Петенька?
Ни к чему не стремится четырехстопный ямб, ничем не рискуют ведомости фондовые, никакие тенденции формальных сущностей не отвечают ничему, что происходит с Петром Павловичем Пунцевым, а происходит с ним кризис.
Позабыл он прилагательные и причастия, приказы подчиненным глаголами отдавая, изредка упором ногу ставя на крепкое существительное, как на педаль сцепления. Но не в этом кризис его, не в частоте использования грамматических форм, а лишь проявляется в грамматике происходящее с ним; проявляется, как пятна под мутным красным светом на фотобумаге.
Все, что дается Петруше, волей дается, и лишь сопротивление встречает его на любом крыльце. Да и не рассчитывает он ни на что иное. Научил его бизнес ценить сухой остаток слова, рычаг глаголов и ломик императивов. Ничего само собой не делается – истина эта детская обросла крепостными стенами, башнями с бойницами, вон – у леска гарцует кавалерия замыслов, а дисциплинированные резервы легионами перестраиваются в поле по одним Петруше ведомым резонам. Что ему Леля, что ему 666, что Мадонна среброшерстая, что трамвай слева? – шары бильярдные, бойцы отрядные, солдаты жизни его, убьют одного – на место следующий встанет, как зубами дракона сеянные. Глубока линия обороны, далеко разведка ходит, вышколены полки фронтовые. А коли не вышколены – сменим!
Не видят незримого фронта бойцы, что с полководцем делается, пустяки какие раздражать его стали. Как нахлынет волна ярости, закипит злобой, и отляжется направленным потоком под холодной ладонью каратистской воли; вновь пеной изойдет, и снова обретет направление целью и способами – кто наблюдал двухтактный механизм судьбы? Вздыбится и рассредоточится перпендикулярным движеньем. Однако из всех он – единственный жив. Неужели так выходит, что? Кто ж он – Кулибин? Калашников? Макбет? О. Бендер? Нет – он, Пунцев Петр Павлович, по школьной кличке Хорей, жив он, а не ожидает жизни в трамвае, он один – настоящий, а вокруг него – враги его, и они же – войско его. Орлы или шакалы – это как масть ляжет, это еще как он, Петька Хорей, судьбой своей в очередной раз овладеет, на коня вскочит, не промажет, совпадет с этой жизнью, впишется на вираже, первым с хеком ударит. Тонет, тонет в самом себе Петр Павлович, как Иван Адреич Пустовойт тонет, но без смеха, а с пеной в наглом блеске расчета и воли, со взглядом, шакалов в орлов преображающим, или наоборот – тут уж, как выйдет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу