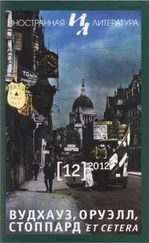Хаусмен. Но разве нет пользы в том, чтобы установить, что на самом деле писали античные авторы?
Джоуитт. В общем и целом это было бы скорее желательно, чем нежелательно; и работу эту успешно проделали, где только возможно, добротные ученые, которых уже лет сто как нет. В остальном определенность возникнет, только если отыщется автограф. Не далее как сегодня утром у меня была причина отдать машинистке автограф письма, написанного мной отцу некоего студента. Копия, возвращенная мне, гласила, что Мастер Баллиоля принужден исполнить свой тяжкий долг и заклеймить противоестественный порог. Иными словами, каждый, кто имел дело с секретарями, знает, что слова Катулла были искажены уже тогда, когда двое переписчиков закончили свои списки, то есть приблизительно ко времени первого вторжения римлян в Британию [73], а ведь самый ранний из известных нам списков появился примерно на полторы тысячи лет позднее. Вообразите всех этих секретарей! Ошибка тянется за ошибкой с папируса на папирус и с последних крошащихся свитков переносится на первые новомодные пергаменты, чтобы повторяться еще тысячу лет; рукопись без единой запятой шла сквозь строй переменчивых график и правописаний, не говоря уж о плесени, крысах, пожарах, наводнениях и церковниках, скорых на суд и расправу; так слова Катулла и кочевали от переписчика к переписчику – тот пьян, этот дремлет, третий небрежен, а те, кто трезв, бодр и дотошен, – либо невежды в латыни, либо, что страшнее, почитают себя латинистами почище Катулла, – пока в долгожданном конце цепочки, подобно вернувшемуся домой битому и трепаному псу, на порог итальянского Возрождения не рухнул единственный живой свидетель тридцати поколений небрежности и глупости – Codex Veronensis [74] Катулла, который тоже был утерян почти моментально, но не раньше, чем его скопировали, дав ошибкам последнюю лазейку. Здесь-то стихи Катулла и приняли вид, в каком их увидел первый печатник-венецианец четыреста лет назад.
Хаусмен. Где, сэр?
Джоуитт (указывает). Вот здесь.
Хаусмен. Вы хотите сказать, сэр, что рукопись здесь, в Оксфорде?
Джоуитт. Ну да. Потому ее и называют Codex Oxoniensis. Один немецкий ученый совсем недавно осознал все значение кодекса и положил Oxoniensis в основу своего издания Катулла. Мистер Робинсон Эллис [75]из Тринити-колледжа обнаружил существование кодекса несколькими годами раньше, но, увы, не оценил, насколько он важен. Поэтому эллисовское издание Катулла отмечено лишь тем, что, на беду, игнорирует открытие собственного составителя.
Входит Эллис с самокатом, он играет ребенка, в руках – леденец на палочке. При этом одет не по-детски.
Вот тебе и на, Эллис! Забыл про свой Oxoniensis !
Эллис. Не забыл.
Джоуитт. Забыл.
Эллис. Не забыл.
Джоуитт. Забыл.
Эллис. Не забыл.
Так они и продолжают, тем временем вплывают АЭХ и Харон.
Джоуитт. Забыл.
Эллис. Не забыл.
Джоуитт (уходя). Забыл. Забыл. Забыл!
Эллис. Не забыл. И вообще, Беренс [76]его переоценил. Вот тебе!
АЭХ. Это Бобби Эллис! Он слегка изменил своим манерам, но по интеллекту узнаешь его безошибочно.
Эллис. Молодой человек, мне сказали, что вы определенно окончите с высшим баллом. Я предлагаю собрать класс в следующем семестре, читать Монобиблос. Взнос – один фунт.
Хаусмен. Монобиблос?
АЭХ. Этого я тоже где-то видел.
Эллис. О боже! Монобиблос – Проперций, книга первая.
Хаусмен. Проперций.
Эллис. Величайший из римских элегиков [77]– и самый испорченный.
Хаусмен. О!
Эллис. Разве что у Катулла текст более поздний, но я бы сказал, что Проперций испорчен сильнее.
Хаусмен. О, испорчен! Да, сэр. Спасибо, сэр.
Оба уходят.
АЭХ. Вы знаете Проперция?
Харон. Вы имеете в виду – лично?
АЭХ. Я имею в виду – стихи.
Харон. А, тогда нет. Приехали. Элизиум.
АЭХ. Элизиум! Где же еще?! Мне было восемнадцать, когда я впервые увидел Оксфорд, и Оксфорд был очарователен. Еще не стал приманкой для туристических толп, как сегодня. С бирмингемского поезда вас встречали извозчики; и в городе не было ни единого здания из кирпича, пока не построили Кинема и кафе Кардома. Оксфорд моих снов, вновь явленный во сне. Желание помочиться, вместе с соображением, что делать этого не стоит, обычно говорит о том, что ты спишь.
Харон. Или сидишь в лодке. Со мной такое было однажды.
АЭХ. Вы спали?
Харон. Нет, я был в пьесе.
АЭХ. Над этим нужно поразмыслить.
Харон. Аристофан, «Лягушки».
Читать дальше