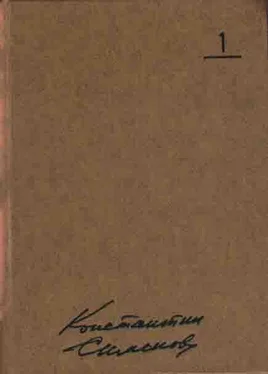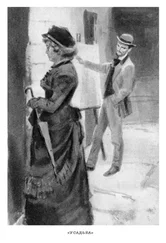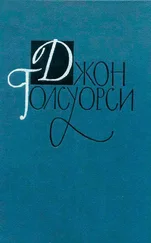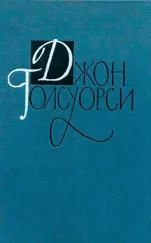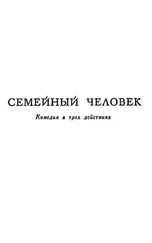Постепенно читателю открывается эта «надбытовая» суть, открывается, почему слово «сталинградский» стало восприниматься как превосходная степень понятий «стойкость» и «мужество». «То, что они делали сейчас, и то, что им предстояло делать дальше, было уже не только героизмом. У людей, защищавших Сталинград, образовалась некая постоянная сила сопротивления, сложившаяся как следствие самых разных причин — и того, что чем дальше, тем невозможнее было куда бы то ни было отступать, и того, что отступить — значило тут же бессмысленно погибнуть при этом отступлении, и того, что близость врага и почти равная для всех опасность создали если не привычку к ней, то чувство неизбежности ее, и того, что все они, стесненные на маленьком клочке земли, знали друг друга со всеми достоинствами и недостатками гораздо ближе, чем где бы то ни было в другом месте. Все эти, вместе взятые, обстоятельства постепенно создали ту упрямую силу, имя которой было «сталинградцы», причем весь героический смысл этого слова другие поняли раньше, чем они сами».
Необычайные ситуации, из ряда вон выходящие трагические (а иногда и счастливые) случаи, которые нередки на войне и которые, казалось бы, прежде всего привлекают художника, Симонова не очень-то занимают. Следуя толстовской традиции (Симонов не раз говорил, что более высокого образца в литературе, чем Толстой, не знает), писатель стремится представить «войну в настоящем ее выражении — в крови, в страдании, в смерти». В эту толстовскую формулу следует еще обязательно включить тяжкий повседневный солдатский труд, к которому Симонов относится с глубоким уважением, придает ему особое значение. Во всенародной войне, исход которой зависел от силы патриотического чувства множества людей, рядовых участников событий исторического масштаба, роль обыкновенного человека, труженика войны не понижалась, а повышалась. И сила духа симоновских героев, и чувство ответственности, присущее им, и их мужество и самоотверженность, лишенные бравады и самоупоения, — за всем этим встает народ, защищающий свою свободу и достоинство, свой образ жизни.
Работал Симонов в годы войны с яростным упорством и написал поразительно много. Но когда в первые послевоенные годы он занялся новыми, рожденными нынешним днем темами, это объяснялось, конечно, не тем, что он исчерпал материал, — наоборот, у него и тогда было ощущение, что многого о войне он недоговорил, о многом еще не рассказал. Одна из причин была в том, — и это относится ко всей нашей литературе той поры, — что отодвигающаяся в прошлое война требовала уже иного подхода, иного угла зрения. Выработать этот новый подход оказалось непросто, сразу он не давался — тяготела инерция изображения войны для войны, а нужно было почувствовать, понять, что же таит она в себе жизненно важного для современности, у которой иные, и немалые, заботы…
Что касается Симонова — тут была еще одна причина: свойственная его дарованию чуткость к движению времени. Он привык писать о том, что увидел вчера. Было это самым важным, ибо в каждом бою обнаруживалось в людях то, от чего зависела судьба родины. Для осмысления мирной жизни — не только сложной, но и очень трудной: военные потери долго давали себя чувствовать, — для постижения ее глубинных тенденций, направления развития нужна была хотя бы минимальная временная протяженность, чтобы тенденции эти отчетливее проявились, существенное отслоилось от мимолетного. Но ожидать вообще не в характере Симонова, да и приобретенный им в войну журналистский и писательский опыт толкал его вперед, к новым темам, не давая мешкать. Однако стремление во что бы то ни стало идти по горячим следам событий в новой обстановке но приносило ему тех удач, что в военные годы.
И еще одно. В войну Симонов постоянно находился в гуще жизни, если это понятие применимо к фронтовой действительности, он и сам был непосредственным участником событий — нередко даже на солдатском уровне, — на себе испытывая то, что выпадало на долю воина переднего края, рискуя своей головой. После войны обстоятельства складывались так — продолжительные зарубежные командировки, многочисленные общественные обязанности, — что добираться до «переднего края», до «солдатского уровня» мирной жизни ему было куда сложнее и удавалось куда реже…
Даже произведениям, по праву занявшим место в настоящем издании, — я имею в виду пьесу «Русский вопрос» и цикл стихов «Друзья и враги», — недостает того лирического волнения и напряжения, в которых заключена немалая доля симоновского обаяния. Это становится очевидным, если сравнить, например, «Русский вопрос» с «Четвертым» (произведения со сходным материалом и близкой проблематикой) или, скажем, циклы стихов «Война» и «Друзья и враги» (здесь тоже можно найти некоторые общие мотивы). Только в повести «Дым отечества» есть это сильное лирическое напряжение, есть боль и гордость, рожденные душевным потрясением, которое испытал автор: вслед за своим героем он из сытой, не знавшей военного разорения, упивающейся собственным благополучием Америки попадает на многострадальную Смоленщину, которой война оставила в наследство неисчислимые трагедии и беды. И хотя повесть не лишена слабостей, — пожалуй, «Русский вопрос» сделан крепче, мастеровитее, — именно она из всех написанных в ту пору вещей самая симоновская…
Читать дальше