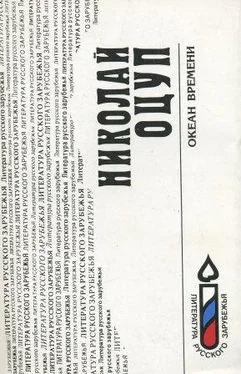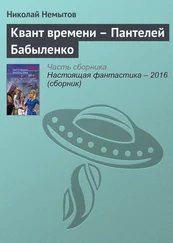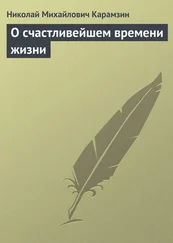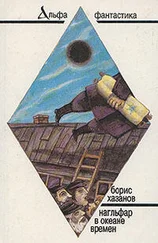«Забор под дубом… Желтый помидор…»
Забор под дубом… Желтый помидор,
Растение подперто хворостиной,
Все, как могло быть там, у нас. Но гор
Присутствие почти везде. Маслиной
И виноградом испещренный дол
И то, что в сентябре лишь ночью холод,
Напоминают мне, что я провел
В изгнанье двадцать лет. Где был ты молод,
Там в эти дни не южная краса —
«В багрец и золото одетые леса».
Вернули деревням и городу солдата,
Счастливец за станком опять и за сохой,
А неудачнику — больничная палата,
И нищенство, и жить с обманщицей женой.
Еще из лагеря вернули заключенных,
Такой-то не сожжен, не умер под плетьми,
Но даже он забыть сумеет ли о стонах
Своих и ближнего, хоть гром побед греми!
Чем, победители, утешите вы этих?
Конечно, не расправами с врагом.
Вот если б вы любовь развить умели в детях
К тому, что наше и забыли мы о чем.
И разве слезы все в чудовищном избытке
Не пролиты затем, чтоб доказать (пора!)
Несостоятельность еще одной попытки
Отречься от Того, Кто — океан добра.
«Напрасно хотелось России…»
Напрасно хотелось России
Ужасной ценою купить,
Чтоб этому больше не быть:
Друг другу и в новой стихии
По-прежнему люди чужие,
А сердцу усталому надо,
Чтоб самая ветхая вновь
Его оживляла триада:
Страданье, прощенье, любовь.
I. «Как часто я прикидывал в уме…»
Как часто я прикидывал в уме,
Какая доля хуже:
Жить у себя, но как в тюрьме,
Иль на свободе, но в какой-то луже.
Должно быть, эмиграция права,
Но знаете, конечно, сами:
Казалось бы, «Вот счастье, вот права» —
Европа с дивными искусства образцами.
Но изнурителен чужой язык,
И не привыкли мы к его чрезмерным дозам,
И эта наша песнь — под тряпкой вскрик,
Больного бормотанье под наркозом.
Но под приказом тоже не поется,
И, может быть, в потомстве отзовется
Не их затверженный мотив,
А наш полузадушенный призыв.
II. «Мне кажется, что мог бы эмигрант…»
Мне кажется, что мог бы эмигрант
Примерно так ответить на упреки,
Что изменил он родине своей:
«Уж я не говорю о всех бежавших
На Запад в прошлом, чтобы ей служить,
Но был изменником и Достоевский.
Ветхозаветная его душа
Вас называла бесами, и Пушкин
Изменником в таком же смысле был:
Уже тогда прославил он свободу!
Они учителя мои в любви
К России…»
III. «Жертва времени-безвременья…»
Жертва времени-безвременья,
Под обстрелом неприятеля
Вглядываюсь в нашу темень я:
Тень журналов, тень читателя,
Эти поиски стихии,
Веры, почвы, дела, нации
(Двадцать девять лет в России,
Скоро тридцать в эмиграции)…
Неужели наша странница,
Наша муза-бесприданница,
В сердце мира не останется,
Жалкой, да, и тем не менее
Честной, как разоблачение?
IV. «Конкорд и Елисейские поля…»
Конкорд и Елисейские поля,
А в памяти Садовая и Невский,
Над Блоком петербургская земля,
Над всеми странами Толстой и Достоевский.
Я русскому приятелю звоню,
Мы говорим на языке России,
Но оба мы на самом дне стихии
Парижа и Отана и Оню.
Душой присутствуя и там и здесь,
Российский эмигрант умрет не весь,
На родине его любить потомок будет,
И Запад своего метека не забудет.
V. «Есть Россия Курбского и Герцена…»
Есть Россия Курбского и Герцена,
Та, что и у нас теперь на сердце, на
Совести: мы деспотам — враги,—
Но в стране, где воля Иоаннова,
Николая или же Ульянова,
Разве только не видать ни зги?
Там ведь столько эмигрантов внутренних,
Сколько в полумгле лучей предутренних
В час, когда вот-вот вскричит петух…
Здравствуй, подколодная, подпольная,
Под личиной злобы сердобольная,
Твой не угасает дух!
VI. «О родине любимой и свободной…»
«О родине любимой и свободной,
Которую я воин, и поэт,
И многие изгнанники бесплодно
Надеялись увидеть…» Сколько лет
От наших дней то время отделяет!
Где люди те; и где надежды их,
Но кажется, они благословляют
Еще, сейчас изгнанников других.
Читать дальше