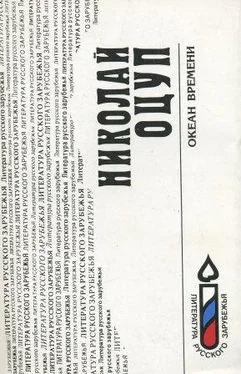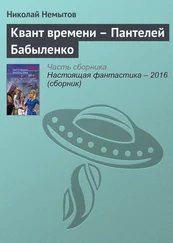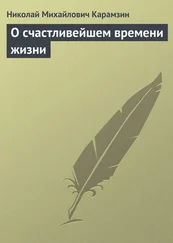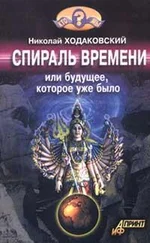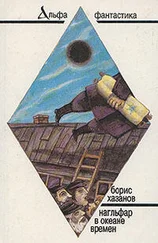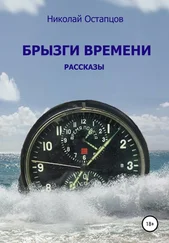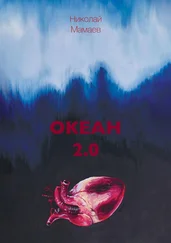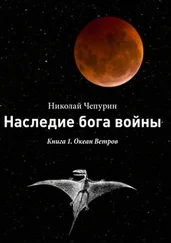Пафос гражданской доблести как бы исключает все другие интересы: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан…» Повторяя эти слова Некрасова, русская интеллигенция млеет от благоговения перед террористами-революционерами, но дальше сочувствия дело не идет.
Нашумевшая статья Мережковского «О причинах упадка русской литературы» указывает на пример французских символистов.
Отпор русского общества почти единодушен. Но оно разбужено от спячки.
Сам Толстой выступает с суровой отповедью новых поэтов.
Декадентство и в самом деле перешло все пределы морали, вкуса и здравого смысла. Самообожание, нарциссизм, поверхностное ницшеанство доводят самого диктатора тогдашнего модернизма, Брюсова, до открытого некрофильства.
Вячеслав Иванов собирал у себя «в башне» цвет тогдашних молодых философов и поэтов. У него бывали такие разные люди, как Бердяев, тогда еще только начинавший карьеру большого мыслителя, известного ныне всей Европе. Тогда он еще только порвал с марксизмом и с жаром неофита проповедовал обновленное православие. Перебывали у Вячеслава Иванова и все тогда еще молодые поэты, ставшие впоследствии всероссийскими знаменитостями: Блок, Андрей Белый, Гумилев, Ахматова и многие другие.
Другой центр Петербурга в начале века — салон Мережковских. Автор знаменитой трилогии «Христос и Антихрист», переведенной на большинство европейских языков, Мережковский приобрел популярность благодаря этим блестящим и построенным по слишком предвзятой схеме романам.
Хорошо ныне известный в Европе, бывший тогда юным студентом, философ Лев Шестов сразу обратил на себя внимание, резко напав на Мережковского, разоблачая бедность его художественной и философской идеи.
Но некоторые essais Мережковского, посвященные великим писателям прошлого века, остались как пример замечательной интуитивной критики.
Жена Мережковского, Зинаида Гиппиус, острый и своеобразный поэт и критик, помогала мужу руководить «религиозно-философскими собраниями», созданными с явно неосуществимой целью: объединить церковь и интеллигенцию.
Символизм и акмеизм, два центральных течения новой русской поэзии, явились прямым развитием и выражением великого кризиса русской культуры накануне революции. В короткой статье нет возможности показать всю значительность этих течений, выдвинувших много первоклассных писателей.
Запоздавшая в своем развитии Россия силой целого ряда исторических причин была вынуждена в короткий срок осуществить то, что в Европе делалось в течение нескольких столетий.
Неподражаемый подъем «золотого века» отчасти этим и объясним. Но и то, что мы назвали «веком серебряным», по силе и энергии, а также по обилию удивительных создании, почти не имеет аналогии на Западе: это как бы стиснутые в три десятилетия явления, занявшие, например, во Франции весь девятнадцатый и начало двадцатого века.
В самом деле, эпоху Пушкина, Достоевского и Толстого надо сравнивать по ее значению скорее уж с веком Корнеля, Расина и Мольера, а по глубине национальных, религиозных и чисто художественных задач она, пожалуй, напоминает итальянское кватроченто с его триадой: Данте, Петрарка, Бокаччо.
Эпоха же русского символизма и акмеизма заставляет думать, с одной стороны, о французском романтизме, то есть о Викторе Гюго и в особенности о А. де Виньи, этом замечательнейшем и даже сейчас еще не достаточно оцененном поэте, с другой стороны — о преодолении романтизма и внутри самого романтизма, то есть о Теофиле Готье, избранном (вместе с Франсуа Вийоном и Рабле) в учителя русского акмеизма, и вне романтизма, то есть, через холодок парнасцев, возвращение к национальным источникам.
Французский символизм с его приблизительностью и певучей затуманенностью, выдающей его германское происхождение, лишь в начале декадентства находит аналогию в поэзии русской. После трагически-напряженных колебаний, выраженных лучше всего в поэзии Блока и Гумилева (германское начало у первого и романское — у второго), серебряный век русской литературы окончательно определяется углубленным проникновением в судьбы национальные.
Нельзя ни на миг упускать из виду того, что оба века величайшего духовного и художественного подъема проходят в России под знаком катастрофы. Даже в мирные эпохи чувство culpabilite collective (Коллективная вина (фр.)) отличает русский народ: все виноваты за всех и не только перед царем или народом, но и прежде всего перед Богом. Конечно, далеко не все писатели на эту народную веру откликаются: и атеизм, и рационализм очень сильны в русской интеллигенции.
Читать дальше