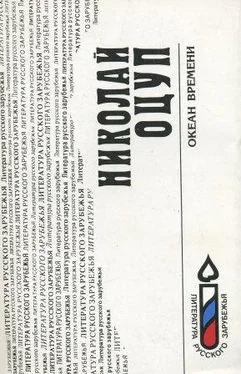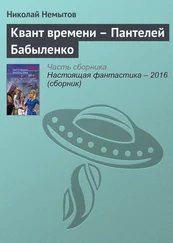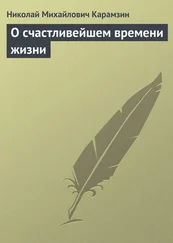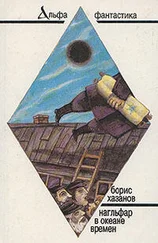Два тома «Жизнь и смерть» также не всегда удачно составлены (в них, например, не вошли полностью все стихи, разбросанные в различных довоенных журналах, а некоторые стихотворения дублируют ту или иную часть уже вышедших отдельно сборников стихов). Зато они дают верное представление о самом главном в поэтическом вдохновении Николая Оцупа. Само заглавие «Жизнь и смерть» взято, быть может, из «Дневника в стихах»:
В тайне самых сокровенных глав
(Жизнь, и смерть, и гибель, и спасенье).
Представляя не только раннюю, но и позднюю лирику поэта, сборник «Жизнь и смерть» ярко вырисовывает духовно-интеллектуальный портрет Оцупа, отчетливо выделяя главные звенья его мировоззрения: образ. России, перед которой меркнет и «страна святых чудес» — Запад, назначение поэзии вообще и русской поэзии в частности, сопряжение духа и тела, любви и печали, гибели и спасения. В своих поисках абсолютного добра и абсолютной любви он, по меткому наблюдению Ю. Терапиано, «изнемогал порой под бременем взятой на себя Идеи». Но «изнемогавший» Оцуп всегда воскресал благодаря своей неиссякаемой вере в жизнь и запасам любви.
От любви, от нежности больной
Через нашу новую разлуку,
Через все, чем жили мы с тобой,
Я тебе протягиваю руку.
Не стали ли эти стихи, обращенные тогда к одной, к Ней, достоянием всех русских людей, да и не только русских, а всех людей, которые мыслят и чувствуют.
Луи Аллен
«Гремел сегодня ночью гром…»
Гремел сегодня ночью гром,
И прыгал град в потоке,
И молния большим прыжком
Качнула ствол высокий.
И в ту же ночь меня томил
Тяжелый бред: корнями
Опутан я, и сети жил
Обожжены огнями.
Я черным деревом стою,
Обугленный и ветхий,
И продолжают жизнь мою
Раскинутые ветки.
А в вышине, где птичий свист,
Где не плясало пламя —
Еще дрожит зеленый лист —
Трепещущая память.
О, если здесь такая непогода,
Что ж на море, где ветер сам не свой?
Сирена тонущего парохода
И стон дождя и волн гортанный вой!
И скользкое бревно обняв за шею,
Глотая волн кипящее вино,
Я не могу дышать и цепенею,
И смытый, наконец, иду на дно.
Я двигаюсь, и я дышу не скоро,
Как ерш на суше раскрываю рот.
Гигантский краб Казанского Собора
Меня в зеленой тине стережет.
Шевелятся мохнатые колонны,
Проваливаюсь в лужу до колен,
От бури жмурясь, длинные тритоны
Плюются пеной с почерневших стен.
Но кто-то любит и кому-то жалко,
И кто-то помолился обо мне,
Проходит в дождевом плаще русалка,
Стихает буря — радуга на дне.
1921
«О, кто мелькнув над лунной кручей…»
О, кто мелькнув над лунной кручей,
Встревожив облачную стаю,
Летит к земле звездой падучей
И крылья воздух освещают?
Нырнули в бездну голубую
Домов чудовищные тени,
С трудом дыша, на мостовую
Упал и гаснет лунный гений.
Привыкший в небе к бездорожью
Он на торцы ступить не может,
Его знобит предсмертной дрожью,
К нему торопится прохожий.
Вот вспыхнул, вот померк от муки
Безглазый, сморщенный калека,
И жадно голубые руки
Цепляются за человека.
Прохожий полчаса возился,
Как будто сделанный из ваты
Вставал калека и валился,
«А ну тебя, сморчок крылатый!»
На Спасской флигелек кирпичный,
И дворник у ворот зевает,
Жена напрасно суп черничный
На примусе разогревает.
Прохожий, уходи скорее…
«А Жалко, что городовые
Повымерли», — и вдруг на шее
Он слышит пальцы голубые.
Растаяли дома сначала,
Как дым разлуки на перроне,
Растаял мост, вода канала,
Нагие отроки и кони.
Зачем луне душа живая?
Жену давно долит дремота,
И дворник, сотки раз зевая,
Встает чтоб затворить ворота.
1921
«Теплое сердце брата укусили свинцовые осы…»
Теплое сердце брата укусили свинцовые осы,
Волжские нивы побиты желтым палящим дождем,
В нищей корзине жизни — яблоки и папиросы,
Трижды чудесна осень в белом величьи своем.
Медленный листопад на самом краю небосклона,
Желтизна проступила на теле стенных газет,
Кровью листьев сочится рубашка осеннего клена,
В матовом небе зданий желто-багряный цвет.
Читать дальше