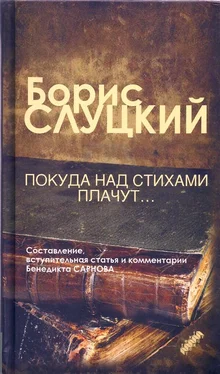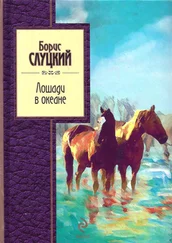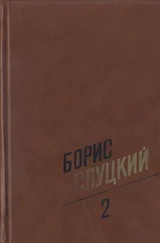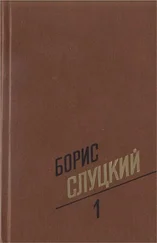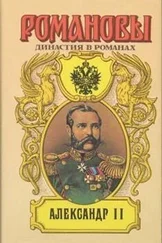Если Вы разделите людей на партийных и беспартийных, мужчин и женщин, мерзавцев и порядочных, это все еще не такие различные категории, не такие противоположности, как отношение между мною и противоположным мне миром, в котором любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают. Это мир мне полярный и враждебный…»
(Борис Пастернак. Собр. соч. в 5 т. Т. 5. С. 542–543.)
Реакция, казалось бы, весьма странная, даже дикая. Великий поэт заявляет, что стихов не любит, в поэзии не разбирается и мир, в котором «любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают» ему не просто чужд, но даже враждебен.
Некоторый свет на эту загадку проливает мимоходом брошенная полуфраза, смысл которой в том, что не разбирается и не желает разбираться он не в поэзии как таковой, а в поэзии, как ее принято понимать. И враждебен ему мир, в котором не просто «любят, ценят, понимают и обсуждают стихи», но при этом еще их смакуют. Это последнее словечко тут многое объясняет.
Жало этой Пастернаковой отповеди и яд его раздражения нацелены в тех, кто полагает, что нравящиеся им и ценимые ими стихи сотканы из слов, рифм, аллитераций, ритмических и интонационных «ходов» и прочих компонентов так называемого «поэтического мастерства». В действительности, однако, дело обстоит совершенно иначе. И далее в том же письме молодому поэту он объясняет, как это происходит на самом деле:
«Даже в случае совершенно бессмертных, божественных текстов, как напр. пушкинские, всего важнее отбор, окончательно утвердивший эту данную строчку или страницу из сотни иных, возможных. Этот отбор производит не вкус, не гений автора, а тайная побочная, никогда вначале не известная, всегда с опозданием распознаваемая сила…
В одном случае это трагический задаток, присутствие меланхолической силы, впоследствии сказывающейся в виде преждевременного самоубийства, в другом — черта предвидения, раскрывающаяся потом посмертной победой, иногда только через сто лет, как это было со Стендалем.
Но во всех случаях именно этой стороной своего существования, обусловившей тексты, но не в них заключенной, разделяет автор жизнь поколения, участвует в семейной хронике века, а это самое важное, его место в истории, этим именно велик он и его творчество».
(Там же. С. 543–544.)
Слуцкий, верный и преданный ученик Маяковского, смолоду учившийся делать стихи, прошедший — и высоко ценивший — «школу мастерства» Сельвинского, казалось, был поэтом совсем иного склада. Но вот это — пастернаковское — понимание самой сути поэтического творчества ему тоже было присуще. И однажды он выразил это с присущей ему прямотой и точностью:
Так себя самого убивая,
то ли радуясь, то ли скорбя,
обо всем на земле забывая,
добывал он стихи из себя.
Сказал он это не о себе — о другом. О любимом своем друге — Михаиле Кульчицком. Но вполне мог бы отнести это и к себе. Даже, наверно, с куда большим основанием, чем к рано погибшему и не успевшему в полной мере реализовать свой поэтический дар Кульчицкому.
Сам он именно вот так «добывал из себя» стихи, «себя самого убивая», иногда радуясь, но чаще — скорбя. И именно эта его скорбь, этот, как говорит Пастернак, «трагический задаток», именно присутствие этой «меланхолической силы», а не уменье, согласно заветам учителей, «делать стихи», определяло ритм, синтаксис, тональность, живое дыхание лучших его стихов:
Я выдохся. Я — как город,
открывший врагу ворота.
А был я — юный и гордый
солдат своего народа.
Теперь я лежу на диване.
Теперь я хожу на вдуванья.
А мне — заданья давали.
Потом — ордена давали.
О поэтике Слуцкого, резко выраженной, легко узнаваемой, можно было бы написать специальное исследование. Но сейчас я хочу сказать только об одной, на мой взгляд, самой существенной ее черте. При всей своей определенности и узнаваемости она была живой, подвижной, меняющейся. Речь идет не об установке на достижения определенной поэтической школы — хотя этого у Слуцкого тоже хватало, — а о проявлении того свойства художественного стиля, которое подразумевал Бюффон, произнесший свою знаменитую формулу: «Стиль — это человек».
Но ближе всего к тому, что я хочу тут сказать, известная поэтическая декларация Н. Коржавина:
Стиль — это мужество. В правде себе признаваться.
Все потерять, но иллюзиям не предаваться,
Кем бы ни стать — ощущать себя только собою,
Даже пускай твоя жизнь оказалась пустою.
Даже пускай в тебе сердца теперь уже мало…
Правда конца — это тоже возможность начала.
Кто осознал пораженье, — того не разбили…
Самое страшное — это инерция стиля.
Читать дальше