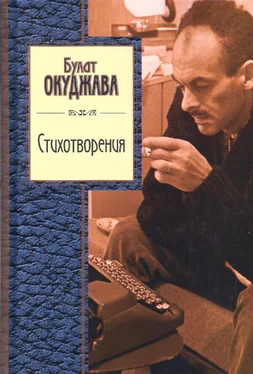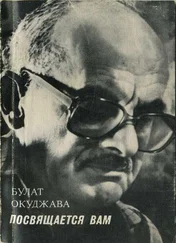И в лицо — что-то злобное, резкое,
как по мягкому горлу ребром,
проклиная, досадуя, брезгуя
тем, уже бесполезным добром.
Палаши, извлеченные наголо,
и без устали — свой своего…
А глаза милосердного ангела?..
А напрасные крики его?..
Сумерки. Природа. Флейты голос нервный.
Позднее катанье.
На передней лошади едет император в голубом
кафтане.
Серая кобыла с карими глазами, с челкой вороною.
Красная попона. Крылья за спиною, как перед войною.
Вслед за императором едут генералы, генералы свиты,
славою увиты, шрамами покрыты, только не убиты.
Следом — дуэлянты, флигель-адъютанты.
Блещут эполеты.
Все они красавцы, все они таланты, все они поэты.
Всё слабее звуки прежних клавесинов, голоса былые.
Только топот мерный, флейты голос нервный
да надежды злые.
Всё слабее запах очага и дыма, молока и хлеба.
Где-то под ногами да над головами —
лишь земля и небо.
Арбатского романса старинное шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастие;
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»…
Не мучьтесь понапрасну: она ко мне добра.
Светло иль грустно — век почти что прожит.
Поверьте, эта дама из моего ребра,
и без меня она уже не может.
Бывали дни такие — гулял я молодой,
глаза глядели в небо голубое,
еще был не разменян мой первый золотой,
пылали розы, гордые собою.
Еще моя походка мне не была смешна,
еще подошвы не поотрывались,
за каждым поворотом, где музыка слышна,
какие мне удачи открывались!
Любовь такая штука: в ней так легко пропасть,
зарыться, закружиться, затеряться…
Нам всем знакома эта мучительная страсть,
поэтому не стоит повторяться.
Не мучьтесь понапрасну: всему своя пора.
Траву взрастите — к осени сомнется.
Вы начали прогулку с арбатского двора,
к нему-то всё, как видно, и вернется.
Была бы нам удача всегда из первых рук,
и как бы там ни холило, ни било,
в один прекрасный полдень оглянетесь вокруг,
и всё при вас, целехонько, как было:
арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье,
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»…
[1] В буквальном переводе с немецкого: «франт», «жених», а в обыденном смысле — мнение обывателя об интеллигентном человеке.
По прихоти судьбы — Разносчицы даров —
в прекрасный день мне откровенья были.
Я написал роман «Прогулки фрайеров»,
и фрайера меня благодарили.
Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и Богом племя,
каких-то горьких дум их овевает дым,
и приговор нашептывает время.
Они сидят в кружок под низким потолком.
Освистаны их речи и манеры.
Но вечные стихи затвержены тайком,
и сундучок сколочен из фанеры.
Наверно, есть резон в исписанных листах,
в затверженных местах и в горстке пепла…
О, как сидят они с улыбкой на устах,
прислушиваясь к выкрикам из пекла!
Пока не замело следы на их крыльце
и ложь не посмеялась над судьбою,
я написал роман о них, но в их лице
о нас: ведь всё, мой друг, о нас с тобою.
Когда в прекрасный день Разносчица даров
вошла в мой тесный двор, бродя дворами,
я мог бы написать, себя переборов,
«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»…
Но по пути мне вышло с фрайерами.
Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне — намордник,
воля — за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.
Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть…
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой — трехэтажный мат…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.
Чуть за Красноярском — твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.
Читать дальше