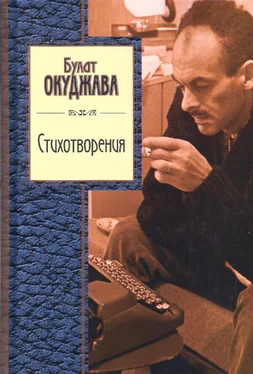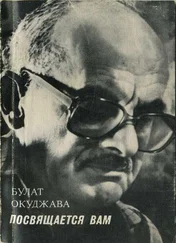Ильинку с Божедомкою, конечно,
не в наших нравах предавать поспешно,
и Усачевку, и Охотный ряд…
Мы с ними слиты чисто и безгрешно,
как с нашим детством — сорок лет подряд;
мы с детства их пророки… Но Арбат!
Минувшее тревожно забывая,
на долголетие втайне уповая,
всё медленней живем, всё тяжелей…
Но песня тридцать первого трамвая
с последней остановкой у Филей
звучит в ушах, от нас не отставая.
И если вам, читатель торопливый,
он не знаком, тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана «Праги» до Смоляги
и рай, замаскированный под двор,
где все равны: и дети и бродяги,
спешите же… Всё остальное — вздор.
Заезжий музыкант целуется с трубою.
Пассажи по утрам, так просто, ни о чем.
Он любит не тебя, опомнись, Бог с тобою,
прижмись ко мне плечом! Прижмись ко мне плечом!
Живет он третий день в гостинице районной,
где койка у окна — всего лишь по рублю,
и на своей трубе, как чайник, раскаленной
вздыхает тяжело… А я тебя люблю.
Ты слушаешь его задумчиво и кротко,
как пенье соловья, как дождь и как прибой.
Его большой трубы простуженная глотка
отчаянно хрипит: труба, трубы, трубой.
Трубач играет гимн, трубач потеет в гамме,
трубач хрипит свое и кашляет, хрипя…
Но словно лик судьбы он весь в оконной раме,
да любит не тебя… А я люблю тебя.
Дождусь я лучших дней и новый плащ надену,
чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист, кружа…
Не многого ль хочу, всему давая цену?
Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?
Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью:
заезжий музыкант играет на трубе!
Что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью?..
Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе…
Старинная солдатская песня
Отшумели песни нашего полка,
отзвенели звонкие копыта.
Пулями пробито днище котелка,
маркитантка юная убита.
Нас осталось мало: мы да наша боль.
Нас немного, и врагов немного.
Живы мы покуда — фронтовая голь,
а погибнем — райская дорога.
Руки на затворе, голова в тоске,
а душа уже взлетела вроде.
Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе.
Спите себе, братцы, — всё придет опять:
новые родятся командиры,
новые солдаты будут получать
вечные казенные квартиры.
Спите себе, братцы, — всё начнется вновь,
всё должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь…
Времени не будет помириться.
Восславив тяготы любви и свои слабости,
слетались девочки в тот двор, как пчелы в августе;
и совершалось наших душ тогда мужание
под их загадочное жаркое жужжание.
Судьба ко мне была щедра: надежд подбрасывала.
Да жизнь по-своему текла — меня не спрашивала.
Я пил из чашки голубой — старался дочиста…
Случайно чашку обронил — вдруг август кончился.
Двор закачался, загудел, как хор под выстрелами,
и капельмейстер удалой кричал нам что-то…
Любовь иль злоба наш удел? Падем ли, выстоим ли?
Мужайтесь, девочки мои! Прощай, пехота!
Примяли наши сапоги траву газонную,
всё завертелось по трубе по гарнизонной,
благословили времена шинель казенную,
не вышла вечною любовь — а лишь сезонной.
Мне снятся ваши имена — не помню облика:
в какие ситчики вам грезилось облечься?
Я слышу ваши голоса — не слышу отклика,
но друг от друга нам уже нельзя отречься.
Я загадал лишь на войну — да не исполнилось.
Жизнь загадала навсегда — сошлось с ответом…
Поплачьте, девочки мои, о том, что вспомнилось,
не уходите со двора: нет счастья в этом!
Что-то дождичек удач падает не часто.
Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.
Скоро все мои друзья выбьются в начальство,
и, наверно, мне тогда станет легче жить.
Робость давнюю свою я тогда осилю.
Как пойдут мои дела — можно не гадать:
зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю,
и на сердце у меня будет благодать.
Зайду к Белле в кабинет, скажу: «Здравствуй, Белла!»
Скажу: «Дело у меня, помоги решить…»
Она скажет: «Ерунда, разве это дело?..»
И, конечно, сразу мне станет легче жить.
Читать дальше