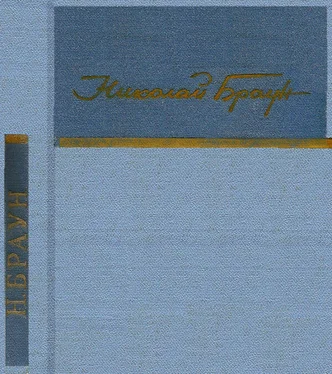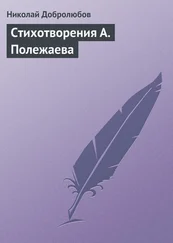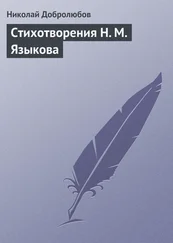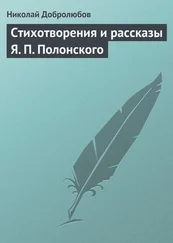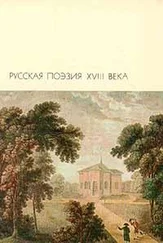1 ...8 9 10 12 13 14 ...22
Надо мной вставал железный
Шквал смертельного огня,
Подо мной кипела бездна,
Синей влагой леденя.
Я подумал: «Нет, не сгину!
Ярость мне дана не зря, —
Выходили ж из пучины
Тридцать три богатыря!»
За родную землю споря,
Я родным тебя назвал,
Сине море, сине море,
Белый парус, ярый шквал!
1943
Догорела заря-заряница,
Во полуночи див прокричал.
Ярославне ночами не спится —
Улететь бы на дальний Каял.
Долететь бы до княжьего стана,
Приподнять бы палатки края:
«Где ты, Игорь мой, князь мой желанный.
Трижды светлая лада моя?
Кабы мне обернуться зегзицей,
Куковала бы я над тобой,
Стерегла бы твой сон до денницы,
Перед войском летела бы в бой.
Я простерла бы крылья, как руки,
К тайным силам небес и земли,
Чтобы Велеса добрые внуки
В поле ратном тебя берегли.
Чтобы стрелы не сохли в колчане,
Чтоб копье не тупилось в бою,
Чтоб стрелой не пробил половчанин
Сердце Игоря, ладу мою!»
И, слезой обжигаясь горячей,
Одержима горючей слезой,
Причитает княгиня и плачет
До зари на стене городской.
Будто видит: ковыль серебрится,
Реют стяги, как слава чисты,
Рыщут волки, и брешут лисицы,
На червленые брешут щиты.
«Где ты, Игорь мой, воин мой? Жив ли?»
Предрассветные дали молчат.
Над бревенчатым тихим Путивлем
Петушиные крылья стучат.
1943
Пройдя сквозь долгий грохот боя,
На слиток бронзовый легла,
Как символ города-героя,
Адмиралтейская игла.
Взгляни — заговорит без слова
Металла трепетный язык.
И воздух города морского,
И над Невой подъятый штык —
Вся бронза дышит, как живая,
В граните плещется река,
И ветер ленты развевает
На бескозырке моряка.
И даль пылает золотая,
И синью светят небеса.
И вдруг, до слуха долетая,
Встают из бронзы голоса:
«Мы так за город наш стояли,
Так эту землю берегли,
Что нынче музыкою стали,
Из боя в песню перешли.
Мы слиты из такого сплава,
Через такой прошли нагрев,
Что стала бронзой наша слава,
Навек в металле затвердев».
Слова уходят, затихая,
В металл, в бессмертье, в немоту, —
И снова, бронзой полыхая,
Игла пронзает высоту.
1944
Я радуюсь весенним ручейкам,
Подснежникам, но мне весна дороже,
Когда над всем стоит грачиный гам,
Веселый хор, на песню не похожий.
Услышишь «карр!» — и воздух свеж и чист.
Услышишь «карр!» — таким дохнет
простором;
Зазеленеет первый клейкий лист,
И лютики взбегают на пригорок.
Повеет полем, первой бороздой,
Пахнет землей — грачи идут за плугом
И кланяются… Голубеет зной,
И теплый ветер наплывает с юга.
Когда ж в полях осенний синь-простор,
Когда прохладен и прозрачен воздух,
Услышишь на заре прощальный хор —
И опустеют брошенные гнезда.
И вдруг войдет такая тишина,
Такая грусть, что все опять приснится:
Ручей, подснежник, детство, и весна,
И это «карр!» веселой русской птицы.
1946
«Раскрылись почки у березок…»
Раскрылись почки у березок.
И все как в юности опять…
А может быть, еще не поздно
Опять сначала все начать?
Встать на заре, грозой омытой,
С такою жаждой петь и жить,
Чтоб этот мир, не раз открытый,
Как будто заново открыть.
И так, как будто все впервые,
В тот мир, волнующий до слез,
Войти сквозь брызги дождевые,
В лицо летящие с берез.
1953
Тростник шумел, шуршал и слушал,
Как в речке плещется вода,
И никому немую душу
Не открывал он никогда.
На языке травы и леса
Он еле слышно шелестел.
Но человек пришел и срезал
Его, и вот тростник запел.
Всегда безмолвный, безголосый,
Запел тростник.
И первый звук
Затрепетал над тихим плесом.
Как будто выпорхнув из рук.
Сперва, казалось, голос птицы
Напоминал он, а потом
Все, что в живой душе таится,
Живой душой запело в нем.
Как будто все, о чем от века
Шептал тростник, и лес, и луг,
В руках искусных человека
Всей глубиной открылось вдруг.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу