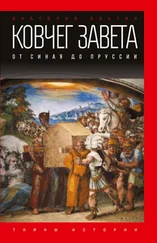Свет вечерний мягко льется безо всякого труда,
словно сонного колодца невесомая вода.
Есть часы такие в сутках: видно все издалека.
Снег поскрипывает чутко под нажимом каблука.
Гаснет зарево заката. Не светло и не темно.
– Было так уже когда-то? – Верно, было. Но давно.
Короба пятиэтажек. Так же сыпался снежок.
И девичий точно так же торопился сапожок.
Я такими вечерами с восходящею луной
шлялся, юный, кучерявый, и влюблялся в шар земной.
Но теперь-то – год от году – затруднительней идти.
Не дает прибавить ходу сердце, сдавшее в пути.
Только свет маняще льется сквозь года и холода,
как былинного колодца животворная вода.
Хватит нам о пасмурном, о грустном. От окна повеяло
свежо.
То ли тополек суставом хрустнул, то ли хрупнул
утренний снежок.
Затаился март уже вблизи, но чертит зиму чуткое перо:
скользкую дорогу к магазину и каток ледовый до метро.
Праведно и тихо, словно в храме. Клен мольбу возносит
к небесам.
Вот и весь пейзаж в оконной раме. Остальное выдумаешь
сам.
Где же, где, в какой такой стране
дом ночной похож на теплый кокон?
Дальний свет скользнул по стеклам окон —
и поплыли тени по стене.
Сколько лет летела световых
трепетная весть от фар заблудших?
Тьма звезду преобразует в лучик,
тонкий луч надежды для живых.
Кто этот задумчивый юнец?
Чьи черты сквозь годы проступили,
через родовые кольца пыли?
Я ли это? Дед ли мой? Отец!..
Смеркается рано, и комнаты в сумраке тонут.
И дремлется дому, волною накрытому сонной.
Вот я на кургане, что плугом еще не затронут.
По степи несомый, от облака след невесомый.
Желанье простое: еще постоять наверху бы —
детали любые, подробности лета замечу.
Пусть маки раскроют по-девичьи влажные губы
тому, что забыли, – горячему ветру навстречу.
О, сон, эта небыль, где мы начинаемся сами,
где родины небо не может не быть небесами,
где детские руки ласкают лукавые маки.
Где тело гадюки мгновенно готово к атаке.
Лежу себе я на диванчике, не замечаю с этой точки,
что день рассыпал одуванчики, взорвал березовые почки.
Я пребываю в неизвестности в своей прокуренной каморке
о том, что солнце в нашей местности насквозь прожарило
пригорки.
Прошита стрелами калеными, зима кончается в овраге.
И, торжествуя, липы с кленами салатные взметнули флаги.
А я по-прежнему в затворниках и не пойму в своих пенатах,
откуда столько рвенья в дворниках и страсти в голосе
пернатых.
В ночи пахнёт угаданно давнишним, и память поведет
упрямо вспять.
О, было время яблоням и вишням объятья лепестками
осыпать!
И сладко так, и славно так дышалось в охваченном
восторгами саду.
Не зря порой охватывает жалость: ни сада, ни себя в нем
не найду.
Что ж, так вот и состарюсь я, жалея о том, что не вернуть
весну мне ту,
когда качнулись ветки, тяжелея в сияющем, как облако,
цвету?
И лишь во сне, в беспамятстве, в ночи
цветут сады Курмана-Кемельчи [1] Курман-Кемельчи – крымско-татарское название села.
.
Проснись этим утром воскресным, излюбленным
у детворы,
и делом займись интересным, занятней азартной игры.
Возьми стапеля табуретки в прокуренной кухне моей.
Построй катерок из газетки, грозу записную морей.
Беги за пределы квартиры к аллее, где лужи свежи.
Брутально, как все командиры, швартовы отдать прикажи.
Пускай неустанно несется по воле раскованных вод,
купается в заводи солнца безмачтовый твой пароход.
Бесхитростный детский кораблик, неужто ты все еще цел?
Истории грозные грабли не взяли тебя на прицел?
Все глубже вода, холоднее. Газетная сникла труба.
И ветры гуляют над нею, и строгая смотрит судьба.
Но славен поход каботажный. Матросы чисты и честны.
И тонет кораблик бумажный в искрящейся бездне весны.
Земля моя, не признанная раем,
за грядками лежала, за сараем.
К известным не причислена красотам,
оперена непуганым осотом.
Читать дальше