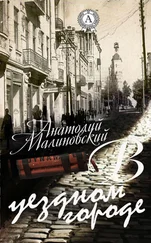Ни властям, ни народу тебе не служить,
Только вечному верить, в прекрасное плыть.
И в награду земную, в награду уму
Испытать поневоле суму да тюрьму.
Да в отместку за честность – литую петлю.
…Но светла твоя жизнь в темноте, во хмелю!
«…Пугливой мыслью не объять…»
…Пугливой мыслью не объять
разор-беду в родимом доме.
Опять страдать, опять стоять
на перепутье, на изломе.
Умы во мгле, сердца во зле,
но мы стоим себе, не тужим.
В какой стране, в какой земле
живём, какому Богу служим?
И не пора ль забыть слова
народ державный, сила, воля? —
ликует гордая Литва,
Орда бунтует в Диком Поле.
А мы под сволочью живём
который год, – и долги годы!
И обернулось тёмным сном
безумье гибельной свободы.
Кто проклял нас? Кого винить
в судьбе расхристанной? Откуда
считать позор – и хоронить
самих себя, но верить в чудо?
…И неизжитый детский страх
меня туда ведёт, где злая
стоит звезда сторожевая
в суконном шлеме – на часах…
«Жизнь выправляет крен, с лихвой хлебнув гульбы…»
Жизнь выправляет крен, с лихвой хлебнув гульбы,
и входит в берега угарных лет разруха,
и можно просто жить по линиям судьбы.
Душа жива…
О чём твоя хандра-присуха?
Как изменился мир! Оставшись при своём,
твои – и горний свет, и храм, и чувство долга
в плетении словес, в служении…
О чём,
людей посторонясь, печалишься подолгу?
…Пустошь. Боры на песках да суглинках.
Память о прошлом быльём поросла.
Будто бы жизнь, помолчав на поминках,
кончилась здесь и навеки ушла.
Господи, где он, блаженный покой?
Сирое поле, разверстое небо.
Запах бурьяна и чёрствого хлеба.
Близкое сердце болит под рукой…
«Птицей Русской обещано песню дивную спеть…»
…в предвоскресном, чисто бирюзовом небе,
где сейчас просквозит звезда, где звезды
никогда не будет.
Птицей Русской обещано песню дивную спеть.
Тёмным роком завещано на чужбине сгореть.
Но – лишённая вещного, нищетой дорожа —
Божьим даром да памятью богатеет душа.
Возгорается, теплится, разрастаясь в пожар,
Дар предвиденья вещего, обжигающий дар
Видеть юное, вечное, – пробуждения ждать
(Ночь и ночь над Отечеством, – ни души не видать).
Мрак туманный да слякотный, но пронзает его
Вера в связь нерушимую и в святое родство.
Честь, и совесть, и слово этой верой сберечь,
А покуда – постылая чужеземная речь,
И глухая, и тайная по России тоска,
И звезда твоя дальная – о пяти лепестках…
…И взяв Его – тая ознобный страх —
они над Ним в безумье злом глумились
в ночь с четверга, и обречённо бились
с холодной тьмой огонь и дым костра;
а Он, воззвав на крестный путь добра,
один за всех прияв венец и путы, —
скорбел душой – как жалок взгляд Петра,
как сладок поцелуй Иуды…
«Неможется от голода сердечка неостылого…»
Неможется от голода сердечка неостылого.
Любилось бы, да лапают другие, говорю я.
Зовёт в постель по праздникам – постылого, немилого.
С любимой без взаимности изводишь век, горюя.
Поизносилось времечко одёжкой под заплатами.
Всё жду-пожду… Спохватится. Поймёт. Подскажут люди.
Обнимет и покается. Блудливой, виноватою.
Я ж и з н ь люблю по-старому.
О н а м е н я не любит…
В дорогу проводы недолги.
Чужих домов не греет рай,
где Богородица на полке
и Чудотворец Николай.
Где пыль мучная по запечьям
осела памятью разрух,
и смотрит пристальная вечность
глазами острыми старух.
О боль больших и малых станций!
Здесь провожали до путей
кормильца в первую с германцем
и во вторую – сыновей.
…Им по ночам родной, красивый —
и не рождённый снится внук.
Они одни. Они всё живы,
сердец прощальный помня стук.
Проходит жизнь. Уходят силы.
Прекрасна молодость во сне,
где живы все!
Но спят могилы
в чужой и дальней стороне…
1980; из рукописи книги «Городская окраина»
Читать дальше