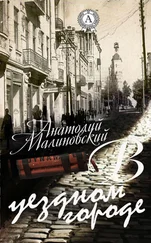…Душа устала быть душой, —
в её раздвоенности, в той
неразрешимости слиянья
сиянья утреннего с тьмой
глухой, полунощной, густой —
её вседневные метанья
и ежедневный подвиг твой, —
душа устала быть душой…
Свет ли фонарный, свеча ли в руке —
странно мерцают за чёрным стеклом
в круглом окошечке слуховом
дома напротив, на чердаке;
в ближнем к фронтону. Загадочный свет,
зыбкий. И полночь недавно пробило.
Полночь пробило. Нечистая сила
в проклятой – Богом забытой – Москве
шабаш справляет… В полночной Москве.
Шабаш в столице безбожной и вольной,
бесчеловечной, бесколокольной,
Бога забывшей. Загадочный свет
гаснет. К тому же теперь Рождество,
месяц восходит с рассветом – у края
неба крадётся, чтоб не украли.
…Сыплются стёкла, разбившись, и в створ
тени выходят, светясь наготой.
Выйдя на гребень, застыли у труб —
холодно голым стоять на ветру,
снег приминая разутой ногой,
переступая… Со стуком и храпом
чёрные кони явились гуськом, —
шестеро взмыли густым косяком
на юго-запад.
Под нами нищая земля,
бездушная звезда над нами.
Мы воспалёнными губами
слова пощады и прощенья
в надежде шепчем – нет спасенья! —
бездушная звезда над нами.
Сухими скорбными словами
мы славим смертное веселье,
и наше тёмное похмелье
в чужом пиру – с р е д и Ч у м ы,
и землю, что любили мы,
и землю, что любила нас,
и влагу жалкую у глаз,
и страх – прощения моля —
мы славим скорбными словами.
Будь проклят век, родивший нас!
Под нами нищая земля,
бездушная звезда над нами.
Чего добились вы? Блестящего расчёта:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.
Здесь по ночам светло. На щёлк и посвист птичий
струят созвездья свет, неясный до поры.
Здесь сутки напролёт плотину-невеличку
городят на реке усердники-бобры.
(Всё нужное – в душе, всё прочее – излишки.)
Здесь по утрам в окно накат и плеск листвы,
а ввечеру огонь в печи и шелест книжки.
…Чего добились вы, лишив меня Москвы?
Близятся сроки, – и голос мой глуше,
слово прозрачней, смиренней мечта.
Глянешь окрест ли – всё мёртвые души,
в душу ли глянешь – в душе маета.
Славы хотел он – и не было славы.
(Позже ты понял, светлея лицом,
что и не надо бесовской отравы, —
с л а в ы —
средь мёртвых прослыть
м е р т в е ц о м, —
многого стоит, да малое значит.)
Но заходила хмельная удача
в мой полуночный незапертый дом,
мокрые ножки у печки сушила,
рученьки грела над поздним огнём,
песенки пела – да сердце пьянила.
Счастлив он был, – ему недруги мстили,
грустная Муза с ним дружбу водила,
жёны ласкали и девы любили, —
где мои годы? Пропали, уплыли, —
пыль? или дымный туман позади?
облак ли лёгкий? гляди не гляди —
в с ё маета. Да беда впереди.
Не разминёшься, дружок.
Выходи.
– Если завтра война, если завтра в поход… —
обрывая рыданьями фразу,
полупьяный калека в аллее поёт —
однорукий циклоп,
одноглазый…
И фуражку, глухую к людским пятакам,
и провал под повязкой незрячий
возмущённые туши гуляющих дам
заслоняют от взглядов ребячьих.
Я смотрю со скамейки вослед пацану.
Как он весел! Ах, как он смеётся!
Мы про наших и немцев играли в войну,
про кого же ему доведётся?..
1979; из рукописи книги «Городская окраина»
«Бросить вёсла, и парус тугой опустить…»
Бросить вёсла, и парус тугой опустить,
И по воле теченья безвольному плыть.
Без руля, по теченью, спустя рукава,
Плыть на стрежне крутом, огибать острова.
Повторить наудачу смертельный изгиб,
Где в отчаянье прежде плывущий погиб.
Нет приюта душе, но и духу – оков.
И для пристани нет по бортам берегов.
Сам в себе заплутавший – во лжи расписной,
Не прельстит славословием берег родной,
Не заманит – надменный, холодный, чужой —
Окаянной свободою берег другой, —
Читать дальше