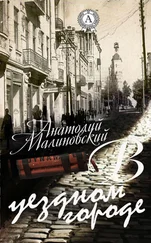«Зачем живу, зачем плыву…»
Зачем живу, зачем плыву
в потоке дней, в круженье лиц?
Мой дом не здесь, я здесь живу
по праву перелётных птиц.
Мой дом не здесь, я здесь гощу.
И выходя один во тьму,
знакомый горний свет ищу —
привычный глазу моему.
Мой дом не здесь, мой дом – звезда,
высок, высок её венец, —
но так не долог путь туда,
где Мать не спит, где ждёт Отец.
Взмахну крылом, – поля у ног
качнутся, поплывёт жнивьё.
И на земле отбудет срок
бездомье вечное моё.
И над травой родных могил,
над чистотою светлых книг,
над болью тех, кого любил,
зайдётся мой
прощальный крик…
«…В день Воскресенья, взрывая гробы…»
…В день Воскресенья, взрывая гробы,
встанем на страшную песню трубы,
с плеч отрясая могильную тьму,
и в о п р а в д а н ь е протянем Ему —
хоть под ногтями! – немного земли,
той, о которой мы лгать не могли,
той, на которой извека стоим —
нищей, голодной, —
возлюбленной Им…
«Как живётся тебе на далёкой планете…»
Как живётся тебе на далёкой планете
в благодати житейской, с удачей в руке?
Не с тобой ли счастливые, сытые дети
говорят на родном – на чужом! – языке?
Но однажды…
однажды ты вспомнишь иное:
снег слепящий, другое свеченье луны;
ветер плачет, и рвётся, и стонет, и воет
над простором забытым несчастной страны.
И тогда…
и тогда, отрешившись от блуда
срамословья, ты в памяти ясной познай
тёмный край,
светлый край ожиданий прощенья и чуда,
кроткий край,
страшный край, где тебя и в глаза называли иудой, —
этот грешный, святой —
и потерянный рай…
«…Ещё потерь своих – на полпути…»
…Ещё потерь своих – на полпути —
не сознаёшь, влюблённый в звон таланта,
но поздней ночью у бессонной лампы
взгляни в себя, как в книгу, и прочти
всё сызнова. Иль – как бесстрастный врач —
рукой умелою спокойно и без дрожи
сними с души покров отмершей кожи, —
гляди в себя и, если можешь, плачь…
…но почему-то,
когда услышу Родина, то мне
увидится и призрачно и смутно
не лунный свет на бархатной волне,
не зимний снег, не летний белый день
и не весны зовущие тревоги,
а та пора, когда и думать лень,
и клонит в сон, и странно телом слаб, —
продрогшие поля, разбитые дороги
и лица тёмные усталых Русских баб,
погасшие в заботах их убогих,
нависшие так низко облака.
И долгая – и вечная тоска.
Когда не верится, что есть и жизнь, и свет,
и смех людей, и людные места, —
а только эта церковь без креста,
холмов окрестных нищий силуэт.
И в колеях глубокая вода.
У врат чистилища душа
одна стояла… Ангел белый,
её оставив, не спеша
прочь уходил. Звездой горела
Земля, и брошенное тело
в ней остывало, не дыша,
не размыкая хладных уст.
Душа глядела виновато
на тело, бывшее когда-то
рабом – бесчестья и безумств —
ей, неразумной, но крылатой, —
и почитавшей божеством
себя, высокую – родством
случайным связанную с телом.
Душа растерянно глядела,
как – угасая – зыбко тлела
Земля малиновой звездой,
далёкой – и чужой отныне, —
и понимала, что в пустыне
всеискупленья ледяной
ей, жившей на Земле рабыней,
за всё ответ нести – одной…
«На простенке тенью птицы…»
На простенке тенью птицы
ветви тень впотьмах качается.
Со среды всегда не спится,
день вчерашний не кончается.
Отогнали сон, похитили
сон дневные обстоятельства.
Омрачила Лик Спасителя
тень Иуды, тень предательства.
Серп небесный у́же, у́же…
Тонешь, тонешь в душном омуте,
не осилить этот ужас —
ужас ночи в белой комнате,
в колдовском мерцанье месяца.
Мышь скребётся за обоями.
Мысль моя – по кругу мечется,
моё сердце – с перебоями.
До утра не спишь, а маешься.
Одному куда как весело…
Всю-то ночь понять пытаешься,
чт о там жизнь накуролесила…
Вот моё сердце. Возьми и спрячь
в ладонях своих ласкающих.
Как этот мрак над землёй горяч,
безжалостно обжигающий!
Жил неумеючи, что-то кропал;
петляла судьба некроткая.
Боже мой Господи, я и не знал,
что жизнь такая короткая…
Читать дальше