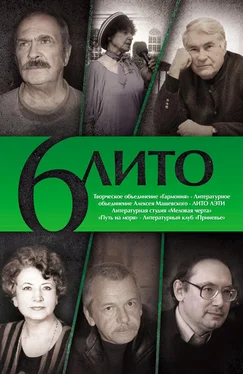Купил сосиску в тесте, пиво
(все прочее привез с собой).
Два дворника с осенней пылью
вступили в безнадежный бой.
Кобель ухаживал за сукой,
ворона мне смотрела в рот,
размякшие грибы и клюкву
несли с Синявинских болот…
Путей назад, конечно, масса:
на электричке через Мгу,
автобусом по жутко тряской
старинной Шлиссельбургской трассе
(терпеть автобус не могу).
Я выбрал железнодорожный
мост, тот, что ниже над Невой:
с него до Ладожского можно
и через пять минут домой.
Рожна какого фея мне сдалась,
приперлась и листом пристала банным.
Я терла пол. Я выгребала грязь
и распаковывала чемоданы.
В кастрюле булькал будущий обед,
вернее завтрак, а возможно – ужин.
На сайте перечитывала бред
от принца, не рискнувшего стать мужем.
«До смерти будешь в девках куковать?» —
как зуб больной под ухом фея ноет.
Я застелила узкую кровать
надушенной лавандой простынею,
велела фее: «Закругляй базар
и, уходя потом, закрой ворота».
Она росой плеснула мне в глаза,
и захотелось плакать отчего-то.
* * *
Разыскал в сундуке – саркофаге,
где хранятся ненужные сны,
пару строк на обрывке бумаги
из карельской столетней сосны,
в щелоках не единожды верченной,
чтобы выглядеть гладким листом:
«Жизнь из девочки сделала женщину.
Собирался писать не о том:
о катарсисе, то есть о совести,
но иначе сложились слова…»
Героиня распавшейся повести
до сих пор, я надеюсь, жива,
любит утром заваривать «Мокко»
и мои ненавидит стихи.
Надо выбросить хлам на помойку,
но сегодня опять не с руки.
Василий Евгеньевич Русаков
(1958–2010)
Автор пяти книг стихов. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Жил в Петербурге.
* * *
Если что останется, то не дети,
И не внуки-правнуки, жалко всё же…
Но стихи, и может случиться, эти,
Что тебе других в этот миг дороже.
Впрочем, не загадывай и не пробуй
Предсказать… молчу, говорю – куда мне?
Нужен ли им памятник меднолобый?
В лопухах тропа иль тропа на камне?
Косари придут и в твою Пальмиру,
Пропадут славяне-евреи-греки…
Но поди верни, Аполлону лиру —
Приросла к рукам, приросла навеки…
Ничего, что звуки не слишком громки,
Но и тихий звук нестерпимо жжётся.
Не меня – простите других, потомки…
Если что останется – то пожрётся…
* * *
Я сказал – уходи! И ушла она,
Провела на вокзале ночь,
Потому что потребовала жена,
Потому что и сам не прочь
Проучить бездельницу, воспитать,
Потому что я старший брат,
Потому что… Как много пришлось отдать
За непрочный семейный лад!
А она простила меня, она
Говорила мне – ты поэт,
И когда б не потребовала жена…
А с тебя, мол, и спросу нет…
Годы лица отметили той резьбой,
Что не красит… и где семья?
Я не знаю, что сделал бы с тем собой,
Я не верю, что это я.
* * *
Она сбегала вниз, не тронув перил,
Она мне казалась чудом в шестнадцать лет,
Ах, как я любил! Сам не знал, как же я любил…
Хотя намекал, но заранее знал ответ,
Вернее, ответа и не было, так – ха-ха,
Танцульки-свистульки, последний десятый класс,
Я пел под гитару и врал и давал петуха,
Она всё терпела, и это сближало нас.
Потом институт, разлука, я был пленён
Советской армией и увезён туда,
Где жизнь засыпает и нет никаких имён,
Лишь номер на бирке, но время бежит, как вода,
Два года мелькнули, мне было не жалко их,
Вся жизнь впереди, и бессчётен годов запас,
И мир, представлялось, был создан для нас двоих,
Она соглашалась, и это сближало нас.
Потом мы разъехались снова на много лет,
Она вышла замуж, не сразу, а так к тридцати,
Детей родила – пребанальнейший, брат, сюжет,
И всё хорошо, даже в гости зовёт – заходи…
И я захожу, и на кухне сижу, как гвоздь,
И глаз не свожу с её чёрных восточных глаз,
И муж её, славный мужик, меня видит насквозь
И потчует пивом, и это сближает нас.
* * *
Царь, который носит две короны,
Тот, чья пирамида высока
И крепки оплоты обороны —
Лотосы, папирус и река…
Ты ли, целовавшийся с богами,
Имя, словно в вечность, в камень вбил,
Разглядев и небо под ногами
В черепках разграбленных могил?
Читать дальше