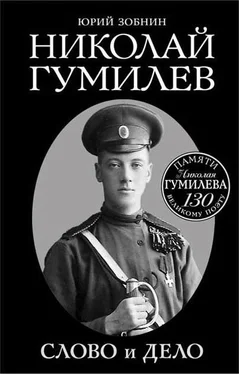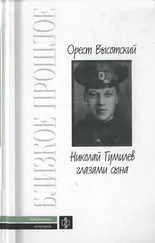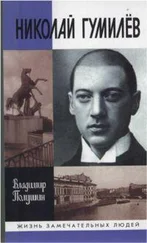Рассчитывая, как и другие главные европейские игроки, на короткую маневренную войну, судьба которой решится в нескольких наступательных операциях, Николай II остановил выбор в июле 1914-го на своем бравом и заслуженном двоюродном дядюшке, который как никто умел пробудить в россиянах боевой дух и веру в скорое торжество Империи. Фронтовики ценили великого князя Николая Николаевича за личный боевой опыт русско-турецкой войны, который в сочетании с образованием в Академии Генштаба позволял ему демонстрировать понимание военного дела. В первые месяцы главковерх произвел ряд удачных кадровых замещений, выдвинув на командные должности талантливых молодых военачальников. Однако в вопросах материального снабжения вооруженных сил Николай Николаевич разбирался очень слабо, полагаясь более на героический порыв бойца, чем на его оружие и довольствие. К области чистой мифологии относятся все легенды о его подвигах на передовых позициях (хождение по окопам под ураганным огнем, возглавление атаки и т. п.). Зато народные легенды не заметили в Николае Николаевиче придворного и политического интригана, весьма беспринципного и коварного. Помимо того, он страдал болезненной неуравновешенностью (С. Ю. Витте именовал его «генералом с зайчиком в голове» ). В общем, можно сказать, что это был военный деятель, полагающийся более на интуицию и удачу, чем на аналитику и расчет, имевший ум «тонкий и быстрый», но мало пригодный к «черновой, усидчивой продолжительной работе» (Шавельский), – скорее походный командир, чем штабной стратег.
Документально отлучка Гумилева из полка в августе 1915 года не зафиксирована, однако Ахматова вспоминала, что Гумилев приезжал тогда, ночевал «во флигеле» царскосельского дома, сданного на лето дачникам, виделся с Н. Л. Сверчковым и даже побывал у матери в Слепневе. Возможно, что речь идет не об одной, а о двух кратких побывках – в начале и конце месяца.
На день рожденья Николая II – 6 (19) мая – приходится день памяти св. Иова Многострадального. «Подлинно, – писал об этом ветхозаветном праведнике Иоанн Златоуст, – нет несчастия человеческого, которого не перенес бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение богатства; и затем, испытав коварство от ближних своих, оскорбления от друзей, нападения от рабов».
Никаких документальных сведений о посещении Гумилевым осенью – зимой 1915 г. занятий в школе прапорщиков нет, равно как нет сведений, о какой именно школе прапорщиков шла речь в командировочном задании. Возможно, он узнал о представлении к новому ордену (приказ был подписан 14 сентября 1915 г.) непосредственно при убытии из полка и ни посещать занятия, ни сдавать экзамены на новый чин с самого начала не собирался (хотя, конечно, некий регистрационный документ где-то для отчета выправил).
Триремой в Древнем Риме назывался военный корабль с тремя рядами весел; для Иванова и Адамовича это был символический образ множества различных поэтических дарований, которые соединились, чтобы грести в одном направлении.
Б. К. Пронин считал, что роковой полицейский обыск в начале марта 1915 года был спровоцирован скандальным выступлением Маяковского с чтением стихотворения «Нате!» («Вам ли, любящим баб да блюда, / Жизнь отдавать в угоду? / Я лучше в баре б… м буду / Подавать ананасную воду»), которое было воспринято как пацифистское. «Нас продали с молотка, совсем как в оперетке, – вспоминал Пронин, – был вынесен стол, стучали молотком, и то, что теперь называется «барахло», было продано за 37 тысяч рублей».
Несмотря на то что Константин Юлианович Ляндау (1890–1969, умер в эмиграции) занимался журналистикой, писал для театра и был оригинальным поэтом-дилетантом (на его книгу стихов «У темной двери» доброжелательно откликнулся Гумилев), в истории он, подобно Пронину, остался организатором и устроителем литературно-художественной жизни Петрограда. Помимо «Лампы Алладина» К. Ю. Ляндау был создателем издательства «Фелана», составителем великолепного «Альманаха муз» (1916) и принимал участие в театральных проектах революционной эпохи.
В. В. Курдюмов . «Ирис».
М. А. Кузмин . «Дитя и роза».
Рюрик Ивнев [М.А. Ковалев]. «Заплакать бы, сердце свое обнажив…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу