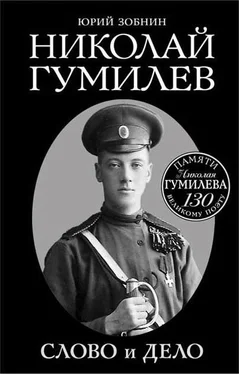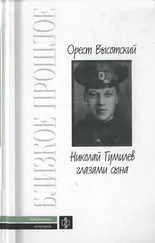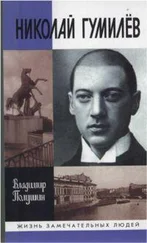Как следует из дневниковой записи отца В. Н. Таганцева, о том, что дело его сына «у нового следователя Агранова и что пока он не ознакомится с делом и сам не допросит Володю, конечно, свидания быть не может», он узнал от заместителя председателя ПетроЧК Я. Г. Озолина утром во вторник 12 июля 1921 г. (Озолин, очевидно, раздраженный действиями Агранова, советовал Н. С. Таганцеву обратиться за помощью к своему непосредственному начальнику Семенову). Таким образом, Агранов начал активно «работать» с Таганцевым с 8 или 9 июля (буквально в канун встречи Гумилева и Ахматовой на Сергиевской улице). Разумеется, «новому следователю» не было нужды специально «знакомиться с делом» – Я. С. Агранов был московским куратором всего расследования ПетроЧК с 30 мая 1921 г. и не подчинялся ни Семенову, ни, тем более, Озолину.
Всероссийский профессиональный союз работников искусств – организация, ведавшая хозяйственными формами культурного строительства.
28 июля 1921 г. после двадцати дней непрерывных допросов В. Н. Таганцев заключил сделку со следствием, закрепленную в виде особого письменного «договора». Таганцев признавал себя виновным в «активном выступлении против советской власти» и выражал согласие «делать показания о нашей организации, не утаивая ничего», а Я. С. Агранов гарантировал проведение открытого судебного процесса и неприменение ко всем обвиняемым «высшей меры наказания». Гарантии Агранова Таганцеву подтвердил специально прибывший для этого нарком финансов и член президиума ВЧК В. Р. Менжинский. «29 июля, – сообщает неизвестный источник эмигрантской газеты «Последние новости», – Таганцев был снова вызван на допрос, и от него в первую очередь потребовали подробный список адресов участников дела. Получив список, Чека в тот же день сделала «установки» и заготовила ордера на обыски и аресты. Аграновская комиссия в тот день к массовым операциям еще не приступала. 30 июля, после допроса Таганцева, Агранову был подан легковой закрытый автомобиль, в котором Агранов вместе с Таганцевым поехали по городу. Таганцев должен был указать все те дома, в которых он бывал, но не запомнил адреса. Автомобиль выехал с Гороховой, 2 в два часа дня, а вернулся в восемь. В ночь с 30 на 31-е начались операции ЧК».
За заведующего ИЗО Наркомпроса Н. Н. Пунина горой встал А. В. Луначарский, засвидетельствовавший благонадежность своего сотрудника в письме к И. С. Уншлихту (заместителю Дзержинского). На Гороховой Пунин просидел трое суток, был однажды допрошен, а затем отпущен на свободу без предъявления обвинения и каких-либо объяснений.
Постановлением Наркомата юстиции РСФСР от 28 декабря 1919 года подлежащими расстрелу признаются исключительно пособники белогвардейских заговорщиков и мятежников. Это постановление стало юридической базой для постановления ВЦИК и Совнаркома от 17 января 1920 года о приостановлении декрета о «красном терроре» 1918 г.: «Революционный пролетариат и революционное правительство Советской России с удовлетворением констатируют, что разгром вооруженных сил контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора». Разумеется, это не означало прекращение карательной деятельности ВЧК, однако для высшей меры наказания теперь требовалось предварительно собрать доказательную базу, убедительно свидетельствующую, что обвиняемый активно и сознательно пособничал совершению контрреволюционного преступления (т. е. соучаствовал в нем). Ранее расстрелу подлежали все «прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», т. е. даже случайные свидетели, члены семей и лица, действовавшие по неведенью.
Известно, что Таганцев имел очные ставки с подследственными из сформированной по его показаниям Аграновым «профессорской группы», рассказывал о заключенном «договоре» и с успехом склонял своих конфидентов к чистосердечным признаниям. Но Гумилев, как можно судить по материалам «Дела № 214224», не вошел в их число и именно выстраивал защиту (причем – достаточно умело), рассказывая о контактах с заговорщиками далеко не все.
Его вдова А. А. Гумилева-Фрейганг оставалась в Латвии до конца 1930-х гг., затем уехала в Брюссель. Ее воспоминания о знаменитом девере и его семье были опубликованы в № 45 «Нового Журнала» (Нью-Йорк) за 1956 год.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу