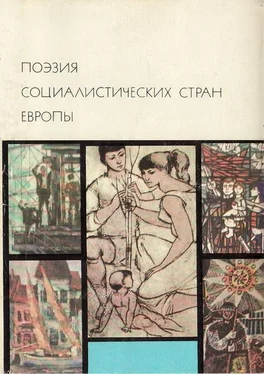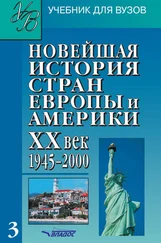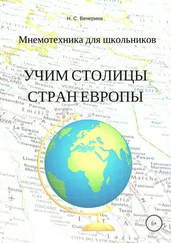Пусть молния в глазах твоих блещет,
ничто огонь в груди не потушит,
пусть губы горячие пламя сушит,
и перед грозной
твоею силою
враг теряется
и трепещет,
моя подруга, подруга милая!
Не песни любви я тебе слагаю
и не о бессонных ночах мечтаю —
в песне кровь моя бьется, будто
вечно алое знамя бунта.
Там,
где гневный огонь пылает,
долы стонут,
гремят винтовки,
там,
где, чувствуя локоть друга,
парни молча
на смерть уходят —
нас ожидает любовь, подруга!
В горах суровых,
в боях кровавых,
о подруга моя золотая,
идешь ты первой
и будешь первой,
а если пуля тебя настигнет, —
все может статься,
где пули вьются, —
а все ж глаза твои не увянут,
и тысячи новых сердец зажгутся,
и тысячи в строй нерушимый станут.
Пусть молния в глазах твоих блещет,
ничто огонь в груди не потушит,
пусть губы горячие пламя сушит,
и перед грозной
твоею силою
враг теряется
и трепещет,
моя подруга, подруга милая!
Мудрая игра, пребудь такою,
неизменно ложное свергая.
Жизнь омой широкою рекою,
чистотою праздничной сверкая.
Будешь добродушней год от года,
но угасший свет в зрачке хранится.
Помоги мне, мудрая природа,
с временною правдой не мириться!
Да, он достоин удивленья вашего —
здесь трудно удивленье подавить:
он топчется у двери миновавшего,
он прошлое хотел бы подновить.
Скажи мне: небо. Мое небо.
Скажи мне: тихие небеса.
И я, малая травинка в темном лесу крови,
оторвусь от земли, несмотря на извечную немощь,
и, высоко вознесенный, выс о ко-выс о ко,
на высоту человечьего глаза,
я стану небом, твоим небом,
я стану небом рассветного часа.
Но не тверди мне, что я так слаб,
не повторяй мне, что я бессилен,
что впору смотреть мне в глаза травы.
Не говори, что из всех травинок
я самая маленькая, увы.
Побереги эту правду до завтра,
не говори мне ее в глаза.
Скажи мне: небо. Мое небо.
Скажи мне: тихие небеса.
Проснись! Ну, проснись же! Светает! Светает!
Солнце поднялось над ручейками сна.
Словно бы с клавиш ксилофонных слетает
музыка — мелодия ее не ясна.
Ах, знаю, за воротами стоят уже кони —
их ржанье беспокойное за сердце берет.
Ах, кони, ожидающие дикой погони,
что бы там ни сталось, а они — все вперед.
А поле-то, а поле уже пахнет медово,
и в тоненьких прожилках травы луговой
такое кипенье чего-то молодого,
что сам помолодеешь, надышавшись травой.
Да, радости и горести соседствуют в мире,
но здесь одно мгновенье — и уходит тень.
Взгляни. Не удивляйся. Глаза открой пошире.
Ну же, просыпайся! Это день. День.
«Надо сегодня быть добрее…»
Надо сегодня быть добрее.
Надо сегодня быть добрее.
Добрее, чем красное сердце хлеба,
которым пахнет жилище
Солнца, Земли и Голода.
Надо сегодня быть добрее.
Надо сегодня быть добрее.
Добрее, чем белые губы воды,
которые, целуя твои колени,
шепчут о глубоком омуте
и о глотке, жаждущей вина.
Надо сегодня быть добрее.
Надо сегодня быть добрее.
Добрее ради ребенка,
которого ждет уже завтрашний день.
Ради того добродушного человека,
который говорит тебе «здравствуйте»
и съедает свой скромный обед.
Надо сегодня быть добрее.
Надо сегодня быть добрее.
Добрее, чем красное сердце хлеба,
добрее, чем белые губы воды,
ради нас,
ради нас,
ради приветливого «здравствуйте»,
ради невинного ребенка,
которого ждет уже завтрашний день.
«Ветер приносит погожие дни…»
Ветер приносит погожие дни.
В нас он гудит и крепчает.
Ветер приносит погожие дни.
Прекрасное и проходит прекрасно.
Остается печаль,
охватывая незаметно,
она наполняет глаза
и взор застилает густой пеленой
не напрасно.
В такие мгновенья что-то до боли тоскливое,
что-то огромное, личное наше, другим недоступное,
держит нас властно.
Но бывает порой печаль легка, как былинка,
и касается нас, словно облачко над рекою,
у которой стоим мы молча в зябкой тени.
Тогда все кажется нам похожим на сказку,
и мы говорим: — Невероятно прекрасно!
Ветер гудит и крепчает.
Ветер приносит погожие дни.
Читать дальше