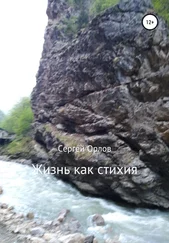И слава ходит по Союзу,
И подвиг этот не забыт,
А сам солдат пока не узнан,
Никем в народе не открыт.
Он жив, он с нами рядом, вот он!
И он сейчас наверняка
В трамвае ездит на работу,
Пьет в праздник пиво у ларька.
1957
В колхоз далекий в пору сенокоса
Приехал я, чтобы стихи читать,
А после отвечать на все вопросы,
Какие станут люди задавать.
Здесь никогда поэтов не бывало,
Но мной в сельпо, между сапог и вил,
В строю брошюрок, желтых, залежалых,
Твардовский все же обнаружен был.
Вещала всем с дверей сельпо афишка
О том, что я писатель ССР.
И в клуб пришли девчонки и мальчишки,
Учительница, фельдшер, инженер.
Но я был рад. Колхоз встает с рассветом,
Лишь три часа за сутки спит колхоз,
Ему не до артистов и поэтов, —
Бушует по округе сенокос.
Чтó мог бы я прочесть ему такое,
Достойное не просто трудодня,
А солнца в сенокос, росы и зноя, —
Нет, не было такого у меня.
И среди белых полевых букетов
Над кумачовым заревом стола
Я призывал на помощь всех поэтов,
Которых мать Россия родила.
А в зале льны цвели, цвели ромашки
На длинных лавках, выстроенных в ряд,
И тишина, ни шороха, ни кашля,
Лишь было слышно — комары звенят.
За окнами домой проплыло стадо,
Закат погас, и смолкли петухи.
Три женщины вошли и сели рядом
В платочках новых, праздничных, тихи.
На темных лицах, как на негативах,
Белели брови, выгорев дотла,
Но каждая из них, видать, красива
Когда-то в девках, в юности была.
Они отдали всё без сожаленья
Полям и детям, помня о мужьях, —
Мне пусты показались сочинения,
Расхваленные критикой в статьях.
И я прочел для этих трех солдаток,
Примерно лет моих, немолодых,
То, что на фронте написал когда-то
Не как стихи, а про друзей своих…
1959
«Смеялась женщина, смеялась…»
Смеялась женщина, смеялась,
Как будто яблоки роняла,
Как будто тень и свет сменялись,
И людям все казалось мало.
Ей ветер обнажал колени,
Она подол рукою била
И хохотала в упоеньи
Так, как она всегда любила.
И все вокруг переменилось,
Все стало праздничней и ярче,
Все сдвинулось, переместилось
И стало вдруг свежей и жарче.
А было лишь такая малость —
Катилось, звоном озаряло,
Смеялась женщина, смеялась,
Как будто яблоки роняла.
1959
«Кто же первый сказал мне на свете о ней?..»
Кто же первый сказал мне на свете о ней?
Я никак не припомню сейчас.
Может, первый назвал ее имя ручей,
Прозвенел по весне и погас.
Мог сказать бы отец, но я рос без отца.
В школе мать говорила, обучая детей.
Я не слышал, я ждал лишь уроков конца, —
Дома не с кем меня оставлять было ей.
А вокруг только небо, леса и поля,
Пела птица-синица, гуляли дожди,
Колокольчик катился, дышала земля,
И звенел ручеек у нее на груди.
Может, птица-синица, береза в лесах,
Колокольчик с дороги, калитка в саду,
В небе радуга, дождь, заплутавший
в овсах,
Пароход, прицепивший на мачту звезду,
Рассказали, как это бывает, о ней,
Но тогда я, пожалуй, был робок и мал
И не знал языка ни синиц, ни дождей…
Я не помню, кто мне о России сказал.
1960
«Все, говорят, на свете образуется…»
Все, говорят, на свете образуется,
Все в жизни станет на свои места.
И Дон-Кихот под старость образумился,
Но разум не надгробная плита.
Прихлопнешь разве разумом стремление
Быть искренним, и честным, и прямым,
И все свои печали и сомнения
Нести на люди, обращаться к ним.
У юности в крови есть жажда поиска.
Она сама как поиск и равна
Той жажде, что вела людей до полюса
Жары, вершины, холода и дна…
Меня недавно подвели товарищи,
Не предали, а час такой настал.
И подвели, — подумаешь, удар еще,
Немолод я и многое видал.
Горел, и мерз, и пировал как следует,
Ну подвели, — отбился — пустяки.
Но мысль одна с тех пор меня преследует —
Как быстро образумились дружки.
Разумные, — врагов себе не нажили,
А я, как был, останусь им дружком,
Но в дружбе что-то все-таки загажено,
И это не отмоешь коньяком.
Да здравствует святая сила разума
Быть не рабом — хозяином страстей
И поступать, как юностью наказано
На дымном гребне фронтовых ночей!
Пусть не благоразумная — победная
Идет без страха молодость в зарю.
Я буду стар, как перечница медная,
Но и тогда я это повторю.
Читать дальше
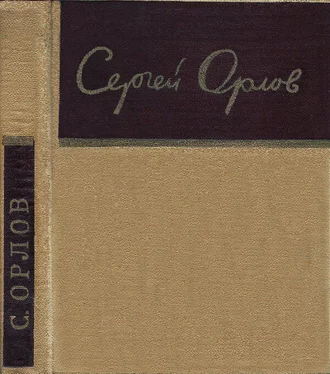






![Сергей Орлов - Потомки исчезнувших Богов [CИ]](/books/423415/sergej-orlov-potomki-ischeznuvshih-bogov-ci-thumb.webp)