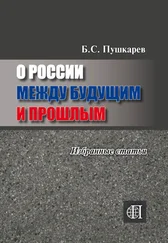Как громко мы, молчим, как тихо спорим,
как медленно горим, как горько пьем,
как гибнем врозь, как верим каждой ссоре, —
безропотно стоим под проливным дождем.
Как странно мы живем, как тупо, немо,
как страшно все, что окружает нас…
В последний раз заря придвинет небо,
и Млечный путь взойдет в последний раз.
В последний раз живем! Прощай, планета!
Лети сквозь ночь, скрипи, земная ось.
Я выброшу стихи, возьму в ладони лето
и медленно уйду, земли мгновенный гость…
Жизнь вывернута наизнанку…
Жизнь вывернута наизнанку.
У времени крутой разгон.
Я выйду в поле спозаранку
и обопрусь о горизонт.
И чту мне чьи-то неудачи,
и чту мне боль, и чей-то смех,
когда повалит наудачу
непоправимо чистый снег?
Когда метель, срывая петли,
мешая сроки, вне времен,
вдруг белые закружит кегли
лиц, памятников, дат, имен?
Я должен многое успеть.
О, если бы я знал заране:
моя ребяческая спесь,
да томик Тютчева в кармане.
Я должен заживо сгореть,
чтобы из пепла возродиться,
я должен трижды умереть
и трижды в слове возвратиться.
Мне только двадцать восемь лет,
возьму и всё начну сначала…
В каком-нибудь глухом селе
у невозможного причала
в шалаш забраться к рыбаку
и ждать, пока не клюнет окунь…
Пока не подытожит осень
и жизнь, и каждую строку.
А время старится, течет, струится…
А время шло, и старилось, и глохло…
Б. Пастернак
А время старится, течет, струится,
и зыбким кажется, и тает на губах.
Еще строку, ведь я верну сторицей,
еще страницу – не земных ведь благ
прошу, в конце концов… О, эти лица!
Куда ты лезешь, глупый, чур тебя!
Тюрьма. Вокзал. Опять тюрьма. Больница.
И ласковые пальцы октября.
На ипподроме – флаги,
на ипподроме – вой…
Налей-ка мне из фляги,
пусти по круговой.
Куда вы мчитесь, кони,
копытами звеня?..
В прокуренном вагоне
везут, везут меня.
Сплетенье тел и линий,
последний поворот…
Как белый шепот, иней
промчится у ворот.
Я вижу, ясно вижу,
как будто подан знак:
не так я ненавижу,
не так живу, не так.
Нас не обманет финиш,
нам жить невмоготу…
Перила отодвинешь
и канешь в темноту.
Как строят дом, как разбивают сад…
Как строят дом, как разбивают сад,
немыслимым трудом, чудовищным упрямством,
в полночный час – одни – с прекрасным постоянством
всё в тот же стол – опять – потупив взгляд,
с сыновней ненавистью на губах,
с жестокой радостью – все вышли сроки! —
выводим мы губительные строки,
превозмогая свой недетский страх.
Я болен. Осенью ли, прозой
или стихами – все равно.
Заката предпоследний козырь
ложится на мое окно.
Иду ль куда – домой, из дома,
молчу ли, стоя у окна, —
не астма – смертная истома…
Окно. И за окном – стена.
В окне – фонарь, февраль, фрамуга…
Я болен, стало быть, здоров.
И рядом – ни жены, ни друга,
и ветер с четырех сторон.
…А снег коснется сонного окна,
и до окна уже не дотянуться.
И сада оголенная спина
тебя уж не заставит оглянуться.
Пока дышу – надеюсь.
Dum spiro spero. Но
смотри, как леденеет
прозрачное окно.
Уже по крестовине
прошелся раз, другой
обетованный иней,
благословенный мой.
Сентябрьские сроки.
Деревья в три ряда…
Роняет свет высокий
вечерняя звезда.
А осень безнадежно хороша!
А осень безнадежно хороша!
безукоризненна ее отделка.
Мелькнет в кустах оранжевая белка…
Что если вдруг – молчи, не лги, душа! —
вся наша жизнь такая же безделка,
как этот мертвый след карандаша?
Но на часах не двигается стрелка,
и так легко дышать… Но что ни шаг —
то тлен и смерть… Пустынная аллея.
Ни мертвый лист, ни беличьи следы
не трогают тебя, и ты стоишь, хмелея
от этой царственной, торжественной беды,
испытывая боль, почти блаженство…
В несбыточном плену у совершенства.
Читать дальше