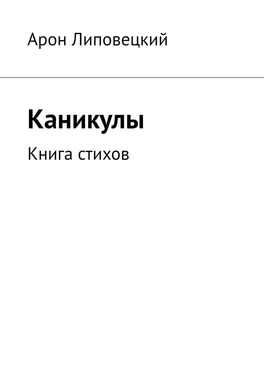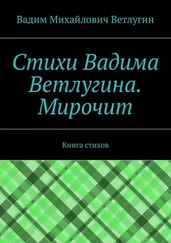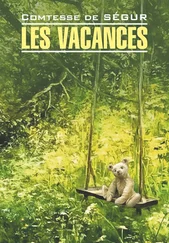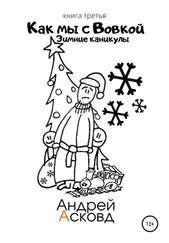«Износил свое тело до дыр…»
Износил свое тело до дыр,
а душа молода и глупа.
Господи, где у тебя эликсир,
старящий душу твоего раба?
«Ты поздно родился, комарик…»
Ты поздно родился, комарик,
Уж август подходит к концу
И дождь по стеклу барабанит,
По крыльям тебе, не жильцу.
Влетай в приоткрытую створку
И в пасмурной кухне кружи.
Здесь пахнет не кровью, а хлоркой,
Попробуй продли свою жизнь.
Ни пищи тебе, ни боренья,
Мы оба, как небо, бледны,
Пьяны ожиданием тленья,
В посредники посвящены.
Здесь царствуют морока звуки,
Не слышен сородичей рой.
Влетай и целуй мои руки,
Поскребыш, уродец, изгой.
В одну из оловянных пауз
парк, не зачав еще ни листьев, ни травы,
креня стакан своим сквозным запястьем,
льет в губы гуммигутовый закат,
истолковав присутствие как завязь
столоверченья с перечнем напастей
из памяти изъятых под заклад.
Весь – угол рта, синюшные подглазья —
парк, видно, счел меня своим врагом,
поскольку отдал мне глотать свой ужин.
Нет смысла уклоняться от соблазна
пустить к миндалинам колючий ком
издержек прошлого, когда и так простужен.
Но призрак трапезы есть каверза ума,
путь прихоти которого уродлив,
ведь давность умещается в стакан,
не изменившись ни на кегль сама.
Парк – просто торопливый иероглиф
на решке дней. Не опознать чекан.
Эйнштейн был прав, считая
время четвертым измереньем,
осью, означенной латинской t.
Оплачивая этих дней счета, я
вдобавок нахожу, что время – деньги.
А памяти высокие жете
назначены покрыть оси пробелы,
изъятия в уплату за долги.
И пребыванье здесь – по сути склока
о валюте. Скупиться или тратить дух и тело —
все мотовство. Стареют уголки
судьбою нам отмеренного срока,
в чьей форме нет возврата на круги.
Что мне до сумеречных выводов ума,
который ищет логику в созвучьях?
Он сам противоречил бы себе,
когда б не предназначенность письма
протоколировать его следы паучьи,
«смешные, может быть, всевидящей судьбе».
А вечер в парке свелся к пустякам,
до процедуры принижения боли.
Когда ты опрокинут, то с лица
стекает влага по нагим вискам
к затылку и далее и не играет роли,
что примешалось: дождь, слеза.
Север, север, двойные рамы, светлые ночи
и затянувшийся на долгий взгляд рассвет.
В окнах при желтом вздохе еще бормочет
под растворимый кофе невыспавшийся поэт.
Смиренный викинг, где дальний обшлаг залива,
из-под Москвы татары, под боком стоит пруссак.
Только вверх глазеть да уповать болтливо
на лестницу в небо, с чашкой, в одних трусах.
Прошлое настоялось и выстояло настоящим,
разлито по парадным мерцанием на просвет.
Что тебе здесь? Ты не впередсмотрящий,
так пригуби, поежься, облокотись в ответ.
Сырые стоны по борту, небеса в канавке,
морошный гул от верфи сукровицей подвоха
растеклись по венам дворов, где ожиданья навык
передается эстафетной палочкой Коха.
«Нам в отпуске везло: летали самолеты…»
Нам в отпуске везло: летали самолеты,
жилье сдавалось, было, что поесть,
и говорили, что такой погоды
здесь не было уже лет пять иль шесть.
Ресницы выгорели, спины почернели,
мы прижились в чужбине. И тогда,
как возвращение домой, в конце недели
сошла скопившаяся за шесть лет вода.
Померкший свет увяз на занавеске,
в герани, в фотографиях. В тазу
светились яблоки, как лики с фрески.
Тьма не ушла совсем, она внизу
была: в углу, за створкой, под кроватью,
где, добираясь, оставался взгляд,
и мысль, и память, и строка в тетради.
На три недели, навсегда назад.
Старый дворник педантично
За листом сметает лист,
Свист не слышит крыльев птичьих
Не грустит аккуратист.
Он исполнен чувства долга
Пред вселенской чистотой.
И бессмысленность итога
Молкнет жалобой пустой.
Странен он в своем усердьи,
Ведь сентябрь еще в начале,
И еще не жжет в предсердьи
Боль, как приступа зачатье.
Читать дальше