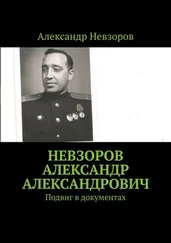Раз – бежит вода по окнам,
Два – скрипит пропахший тамбур,
Три – соседей лица вздрогнут,
Четверть выпала из такта,
Пять – стучит настырный ритм,
Шесть – закружат вальс пыль с сажей,
Семь – затянет грустный гимн
Встречный скорый гул протяжный.
Леса, рельсы, насыпь, шпалы,
Провожают скалы поезд,
Из ущелья змейкой в прорезь —
Капли рек воды усталой.
Всё дело в одиночестве бездонном.
И. Бродский
Нет в эмиграции трех граций,
привкус фрустрации, тень потолка
маячит призраком,
как декорация из «Гамлета», —
«Бог из машины» опускается на сцену,
молвит:
«Есть бесконечно многое на свете,
друг Горацио,
что бесполезно без врождения
в суть нации и языка».
В чем смысл операции
искоренения себя из культа трех
и извлечения источника всех бед
и корня зла из четырех,
и погружения себя в обратное
от силы духа милых двух,
и заточения души в стократное
увеличение слуха – город глух,
и приглашения себя на казнь-кастрацию —
безродной речи затрещины,
и искажения себя аллитерацией
безропотной тарабарщины?
Что ж, в бесконечности скитаться нам —
глаголет зазеркалья тень,
куда податься, если некому отдать себя
плодами да призванием?
Куда бежать, кому писать свои признания,
кого кормить из рук,
куда девать воспоминания тревожные
о всё тех же милых двух?
«Бог из машины», как прожектор,
бьет сквозь тучи ввысь.
В душевном отчуждении не скурвиться —
луч начертал надысь.
Год обернется вкруг себя, пообещал,
вольется в Вологу всяка струя,
и улыбнется чадушкам,
сынам и дщерям Мать-Сыра Земля.
Оттого и сердцу стало сниться,
что горю я розовым огнем.
С. Есенин
Тридцать лет – это не шутка,
Тридцать лет – это жестко!
И не шарж, словно блажь, прибаутка —
Дверь, над дверью висит подковка.
Ни жены нет, ни хаты, ни денег,
Всё, что было, увы, разбазарил,
За идею, мечту, увлечение —
Променял свечу на фонарик.
Нет раскаянья – боги не сжалятся.
Врагов нет, да и месть не предвидится.
Мир меняется, а люди – тратятся.
Мир останется – человек подвинется.
Есть любовь, бесконечная, страстная,
К тем, в кого я влюбился без памяти,
И в друзей, и в подруг – пир без скатерти,
Только строки чернеют на паперти.
Чую, память хиреет, кривляется,
Знаю, счастье людьми избирается,
Коль запомнил вас, вы мне тридороги,
Остальное пусть напрочь стирается.
Помню только самое доброе,
Верю только в самое лучшее,
И надеюсь, простите-забудете
Вы ошибки мои. Ах, как скучно мне!
Я живу под звездою, но в праздности,
Наслаждаюсь остатками пиршества,
Умирают люди, снова рождаются,
Едут поездом, метро, рикшами,
Разгоняются, летят самолетами,
Разбиваются о стены презрения
Фауст с Мышкиным, Дон Кихот. А мы?
Переполнилась чаша терпения.
Люди! «Люди!», – кричу я вам.
Я люблю! Я дышу! Я вижу!
В наготе, посмотрите, не чувствую срам,
Здесь на теле взрывается грыжа.
Мне не стыдно за бредни из тонких слов,
За предание из песен и басен,
Я вам рад подарить сотни тысяч штрихов,
Свет их красок и легок, и ясен.
Мне хотелось призвать свою музу в союз,
Но писательство – в многобрачии,
Доверяю Эвтерпе судьбу я свою,
Мельпомену целую смачно.
Вот мой летний полет из искрящихся дум,
Где-то в них затаился леший,
В сказке саблей машу, как безумный драгун,
Так, что леший от страха опешил.
Подытоживать глупо, я понял уже,
И не важно: встал рано иль поздно,
Нужно знать, что живется не для миражей,
Сердце движется правильно к звездам.
Не жалею, не плачу, стою и смотрю,
Что же выйдет из моего творчества:
Боль глаголом прижгу и судьбу покорю
Или буду молчать и затворничать.
Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница.
И. Анненский
Промозглых вечеров извечная тоска
в случайности заката совершит
стихийный самосуд,
между распятием раскаяния души
и плетью языка
лежит пропасть сознания —
его вплетения душу спасут.
Читать дальше
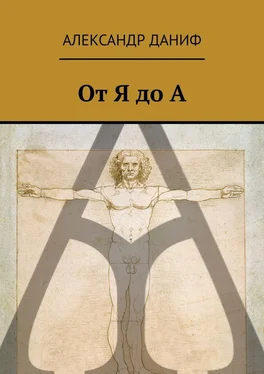


![Александр Александров - Следователь [СИ]](/books/26222/aleksandr-aleksandrov-sledovatel-si-thumb.webp)