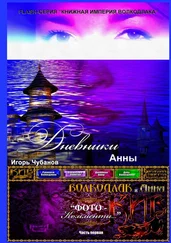– А ты представила бы, Ань, любви картину:
прикосновения клыков кожу ласкают;
тантры мурашками в тело сладость вливают,
дочке даря – мамой – экстаза половину!
Всю обнаженную беременность твою —
с мига зачатия до чуда появленья —
ты ощущала бы мои прикосновенья,
толчками дочери встретив закат-зарю
каждой ночи и дня; рассветы провожая
кормящей мамой из «ромашкового рая»;
веленьям-требованьям дочери внимая,
счастьем тантрическим малышку усыпляя!
Даже вдали от Волкодлака всегда знала
Анна, что дочь её – давно уже моя…
Я говорю слова, вопроса не тая:
«Зачем ты, Ань, дочь от меня скрывала?»
Стеблей винтажность,
и – в бутонах, – цвет сапфира,
застывший искорками на гранях кристаллов,
узорчатостью серебра, как пением хоралов
церковность славит свой уклад для всего мира,
так же стремится приукрасить фото Анны,
которую уже целует солнца блик —
там, в отражении воды, Зверь прячет лик…
и лучше всё исполнить так, чтоб не обманны
для Волкодлака оказались уверенья
солнца лучей, что будет рада поцелую
девичья юность… Жаль, слова «Ань, я тоскую»
остались только звуками стихотворенья;
и строк витиеватость навсегда вошла
в фантазию изысканности ювелирной,
чтобы известность Аннушки стала всемирной,
если уж сущность Хищника их привнесла
орнаментальностью в созвучия металла,
воспев кузнечной ковки звон как музыкальность,
и в унисон хоральный слов влилась тональность,
чтобы душа девичья смысл тоски впитала:
«Склониться бы незримо пред душою милой,
лицом уткнуться в Аннушки чужой колени…
Кто Анну так же, как и я, ещё оценит,
с отказом для меня не став даже постылой,
не говоря уже о том, что должен Зверь
теперь маниакально всех возненавидеть,
чтобы считать правом своим – Анну обидеть,
и правдой ревности ломать квартиры дверь?
Ласкать любимую фигурку Зверя взглядом
и наслаждаться телом, за ткани нарядом,
от счастья близости с сердечком обомлев,
хотелось бы! Жаль, это лишь мечты напев…»
Облик красивой женщины – Анной! – застыл
в волшебном сумраке чарующим укором,
служа для Волкодлака мрачным приговором:
«Тебя никто дарить мне „Коммент“ не просил!»
Луны сиянье обрисовывает замок
из моих грёз, мыслями созданный для Анны…
Неужто Хищник-Волкодлак настолько странный,
что выползает из обычных людских «рамок»
во мраке скал – чертогов из камней замшелых,
луной облитых словно колдовства свеченьем! —
Уродом-Оборотнем, приводя в страх смелых,
расплаты жаждущих с великим самомненьем
над Волкодлаком, в ответ скалящим клыки
с бликами на стекающей слюною злобе;
с глухим урчаньем ярости в Зверя утробе:
воздеть на пики кто решил иль на штыки
печатно-нецензурных слов с рукоприкладством
в «войне миров» между отцами и детьми?
Тургеневские «битвы» связаны с людьми —
Хищник же наделён совсем другим «богатством»:
не угрожать слегка, а сразу рвать – в куски,
спортивных поединков правила втоптав
в месиво из крови и плоти, – тех, чей нрав
теперь лишь мозга брызгами красит виски
взломанных черепов, горячность остужая
трупов, испачкавших волны прохладный всплеск,
после того, как стих последний хруст и треск,
клыкастой Смерти более не возражая…
Молчаньем Анны к камню льнут мысли прибоя,
лаская Тантрой осязаемость людскую;
в Анну-Русалку превратив пену морскую,
что волшебством так не даёт Зверю покоя!
Аннушки тайна скрыта в замке Волкодлака,
облик приняв его тантрической Богини;
оставив память о себе созвездьем Рака,
что украшает ночь – мерцаньем! – и поныне…
Взгляда загадочность и чувственность улыбки,
в губах сокрытой сексуальности узором…
О чём же Аннушка так думает с укором
или о ком? Фантазии Зверя ошибки?
Все склонны верить лишь своим ушам-глазам:
что если муж смог «обрюхатить» свою бабу,
то Волкодлак напоминать собой стал жабу,
так принца тешащей стрелою: «Дам-не дам!»
И Зверь, понятно, теперь выглядит придурком —
дразнится, дескать, кто? – а муж, как Васька-кот,
всласть ухмыляясь, Анны прелести «грызёт»:
супруга – телом! – ведь сама себя «даёт»,
что позволяет Волкодлака назвать «турком»,
Читать дальше