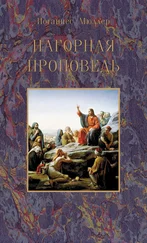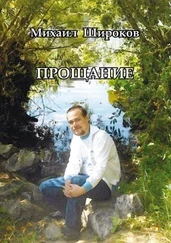И тут вдруг в лице поэта проступило поразительное сходство с моим отцом. Я старался отделить одно лицо от другого, но они были нераздельны в своем единомыслии. Вот так же слились воедино советник Тухман и отец, когда в Беседке счастья они согласно кивали друг другу, после чего фрейлейн Клерхен была уволена без предупреждения. Я даже заподозрил, не сговорились ли друг с другом великий поэт и мой отец отбить у меня охоту к стихотворству?
«За этим скрывается отец!» — насторожился я и сказал вслух:
— Я буду изучать право, а заниматься стихами стану только так, между делом.
Уж я тебя столкну с твоих классических высот! Берегись! Обвал!
«Заниматься стихами» я произнес с особым ударением, именно так выразился бы отец.
— Вот это приятно слышать, вот это разумно, в высшей степени разумно. Пишите стихи в свободное от занятий время, а в основном обзаведитесь серьезной профессией, тогда вы не пропадете…
«Мещанин», — молча ответил Сорвиголова; теперь уже ничто не мешало ему встать и откланяться:
— Благодарю вас, господин Демель, я всегда буду вспоминать ваши слова… — «Когда они уже ничего не смогут изменить», — решил я про себя и это тайное решение подкрепил словами самого поэта: «Не изменяй себе, не изменяй!» Поэт вручил мне мои стихи и проводил в переднюю. Многозначительно положив мне руку на плечо, он сказал на прощание:
— Смотрите же, не изменяйте принятому решению.
«Чиновничья карьера, спокойное местечко и право на пенсию», — поблагодарил я мысленно за совет.
«Вот я тебе покажу! Погоди!» Я носился, негодуя, по улицам, вдоль и поперек, не разбирая дороги, пока не забрел куда-то на окраину города. «Нет, я не позволю убить во мне веру в себя!» Я разорвал письмо, которое все еще таскал с собой, и разбросал по улице горсть голубых клочков. «Как бы не так! Эх ты, поэт, с собственной виллой в Бланкенезе! Я не дам запугать себя демоническими ужимками… Мы еще с тобой встретимся… Погоди…» — грозил я в пространство, пока не развеял свою ярость и разочарование на незнакомых улицах. После многих расспросов и переспросов я вышел к Зендлингенскому кладбищу, и здесь взгляд мой привлекла большая фреска на кладбищенской церкви, изображающая Кохельского кузнеца в кровавую рождественскую ночь 1705 года.
Среди снежной бури над крестами Зендлингенского кладбища стоял Кохельский кузнец и дубинкой, густо утыканной железными шипами, отбивался от пандуров и хорватов, топтавших копытами своих коней могильные курганы- Лес кривых поблескивающих сабель смыкался над головой кузнеца. Снег был единственным светлым пятном в этой ночи; точно обагренный кровью световой экран, озарял он со всех сторон фигуру Кохельского кузнеца, который стоял в этом царстве мертвых как вкопанный, широко расставив ноги, прямой и сильный. Тела его семерых убитых сыновей лежали вокруг него.
Картина излучала силу, она заставила меня остановиться, взять себя в руки и прекратить бессмысленную беготню… Почему он не привел мне ни одного примера, не назвал ни одного героя, достойного подражания? Вот как на этой картине?
Великое существует!
Горе вам, смиренники!
Побеждают стойкие!
Неужто единственное призвание старости — предостерегать от великого?
Свернув за угол Гессштрассе и выйдя на Луизенштрассе, я уже издали увидел Гартингера: он ждал у почты. Без всякого уговора мы двинулись к Луизенской школе. То был наш старый маршрут. Время от времени мы, как в былые времена, останавливались перед магазинами, и я, глядя на свое отражение в витринах, старался держаться прямо и производить впечатление взрослого, чтобы ничто не напоминало о «палаче»; Гартингер тоже подчеркивал свою возмужалость и держался так, точно стекла витрин навсегда запечатлевали наш новый облик. Гартингер не задирал носа, не поучал, не говорил со мной свысока. Мы болтали только о самых безразличных вещах, словно оба боялись коснуться чего-то важного. Францль скопил деньги и приобрел велосипед.
— Отчего бы нам, — сказал он, — не совершить вместе какую-нибудь экскурсию?
— На пасху, пожалуй, — согласился я. — Ты, конечно, не будешь возражать, если к нам присоединится мой приятель Левенштейн?
— Отчего же? Ладно! Хорошо бы прокатиться к Баденскому озеру, до Линдау можно добраться поездом.
— Значит, решено?
— Решено!
Мы ударили по рукам и, когда на минутку остановились, с изумлением увидели, что стоим перед Луизенской школой. Дело было в среду, под конец дня. В школе стояла тишина, старый педель с большой бутылью чернил в руках ковылял вверх по лестнице. Гартингер взял меня под руку, и мы пошли назад, по старому маршруту. Так шли мы с Францлем по его Голгофе, он и я, гнуснейший из злодеев, отравивших ему детство. Быть может, он уже и раньше простил меня, но теперь, шагая рядом со мной по старой школьной дороге, он простил меня вновь. Я чувствовал, как в нем оживает прошлое. Когда мы проходили мимо садоводства Бухнера, он выпустил мою руку, как бы говоря: тут я бессилен помочь тебе, иди один. Он скользнул по мне взглядом и уставился куда-то вдаль, точно для того, чтобы развеять гнетущие воспоминания.
Читать дальше